Вопросительное пространство
Беседа с петербургским режиссёром, лауреатом высшей Национальной театральной премии «Золотая маска», Борисом Павловичем состоялась 10 апреля, на следующий день после начала второй сессии спектакля-грибницы «Лес». Событие, которому нет аналога. Этот необычный спектакль основан на лекциях философа и переводчика Владимира Бибихина. Борис стал идейным вдохновителем проекта, однако в целом «Лес» – продукт большой театральной коммуны из режиссёров, актёров и исследователей
Пригласил в «Лес» Борис Павлович
Гуляла по «Лесу» Эвика Сивакова
Фотографировала Ева Пчёлкина
Официальный сайт проекта: https://les-bibihin.ru
Гуляла по «Лесу» Эвика Сивакова
Фотографировала Ева Пчёлкина
Официальный сайт проекта: https://les-bibihin.ru
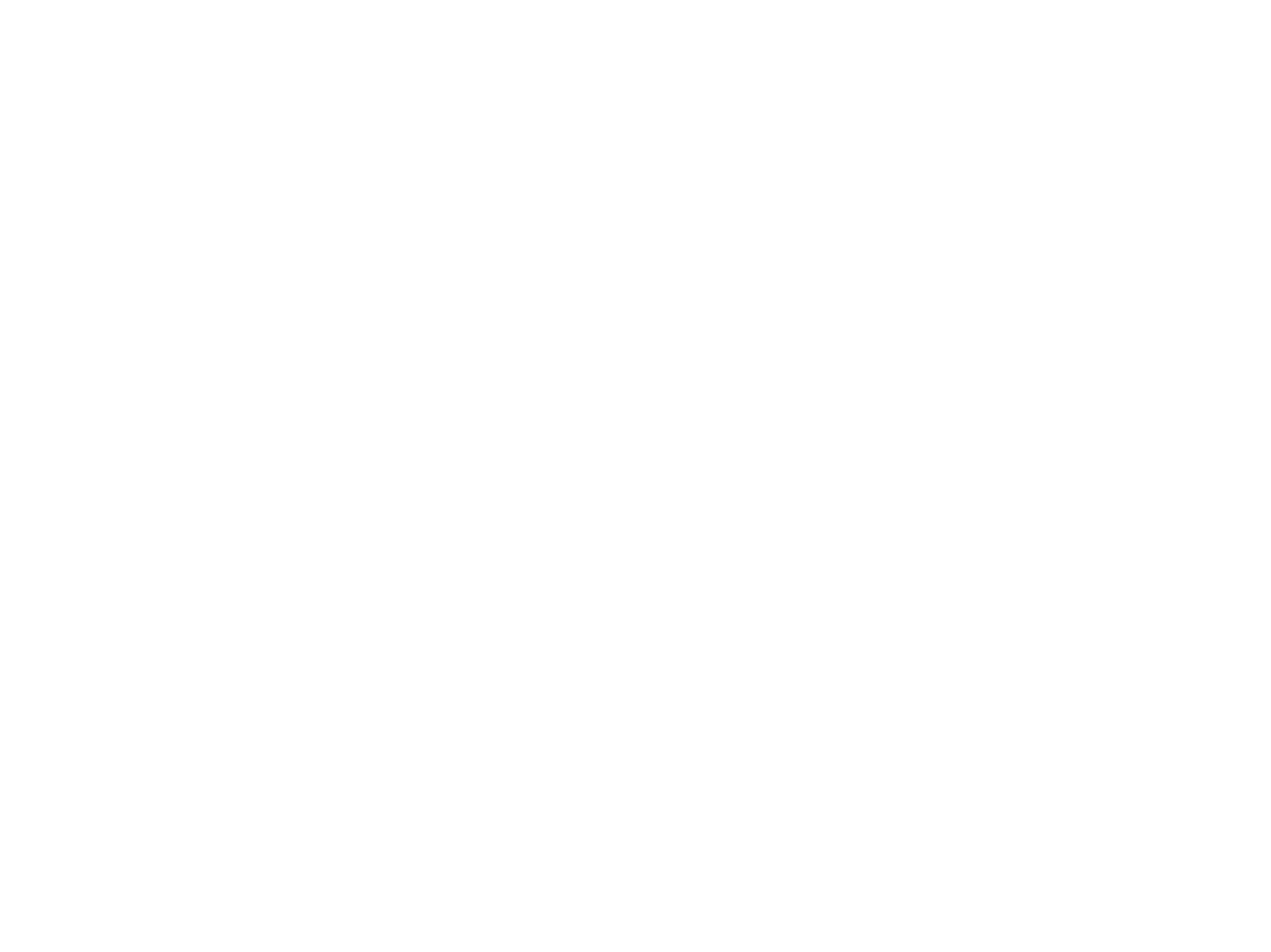
Вчера мы с вами виделись на «Лес. Книга»... Можно ли это назвать спектаклем?
Мне кажется, всё-таки это не спектакль, а часть «Леса». Весь «Лес» — это спектакль. Для меня важно, что «Лес» — это один спектакль, который состоит из множества частей. Есть «Лес.Актриса», «Лес. Ангелина», «Лес.Турпоход», «Лес.Ожидание» и т. д. Это такое сложносочинённое действо. На первый взгляд афиша «Леса» похожа на афишу фестиваля: спектакли, лекции, вечеринки. Но для нас важно, что в данном случае речь идёт не о собрании разных произведений, а о частях целого. Это эпизоды одного спектакля-сериала, и каждая из серий устроена по-своему. Например, в «Книге» нет ролевой модели: там нет третьего, кто смотрел бы со стороны, все, кто пришёл, оказываются участниками. Про разные части одного спектакля можно привести аналогию: это так же, как внутри привычной постановки может быть лекция; или идёт драматический спектакль, а мы включаем кусок фильма; или куском спектакля может быть концерт. Куском спектакля под названием «Лес» является наша «Книга». Сама по себе, в отрыве от остального, она вызывает много вопросов. Например, мужчина, который был у нас впервые, спросил: «У вас всегда так? Сидите и болтаете?»
В итоге пришли к выводу, что чаще всего так и происходит?
Это ирония. Хотя да, наши спектакли так или иначе текстоцентричны, они завязаны на философии, на текстах Владимира Бибихина. В них много вербального, но в основе всегда есть драматическая ситуация. Исключением являются «Лес.Книга» и серия бесед Кеши Башинского «Лес.Зритель». Да, мы в самом деле просто разговариваем. Эти разговоры становятся контрапунктом, театральным высказыванием наших коллег. Например, моя хорошая знакомая пришла вчера в три часа на часть «Лес.Актриса», а в семь часов на «Лес.Книга», и у неё сложилось очень объёмное впечатление. Она говорит, что на «Актрисе» было погружение: путешествие с артисткой Кристиной Токарвой по Театру им. Комиссаржевской, пустое гулкое фойе театра днём. Оказавшись в этом пространстве, она сохраняла безопасную дистанцию. Ходила, наблюдала со стороны. А потом на «Книге» из безопасной ситуации провалилась в опасную... Моя знакомая не включалась в беседу, не была тем, кто говорил, но все вопросы прокручивала через себя. Соединение наблюдения со стороны с тем, как оказаться в эпицентре. Многие мысли, которые звучат в «Актрисе», оказались созвучны тем, что мы проговаривали в «Книге». Вот это всё вместе дало ей такой многоплановый эффект. На этом «Лес» и построен, на спонтанном монтаже частей в голове у зрителя.
В итоге пришли к выводу, что чаще всего так и происходит?
Это ирония. Хотя да, наши спектакли так или иначе текстоцентричны, они завязаны на философии, на текстах Владимира Бибихина. В них много вербального, но в основе всегда есть драматическая ситуация. Исключением являются «Лес.Книга» и серия бесед Кеши Башинского «Лес.Зритель». Да, мы в самом деле просто разговариваем. Эти разговоры становятся контрапунктом, театральным высказыванием наших коллег. Например, моя хорошая знакомая пришла вчера в три часа на часть «Лес.Актриса», а в семь часов на «Лес.Книга», и у неё сложилось очень объёмное впечатление. Она говорит, что на «Актрисе» было погружение: путешествие с артисткой Кристиной Токарвой по Театру им. Комиссаржевской, пустое гулкое фойе театра днём. Оказавшись в этом пространстве, она сохраняла безопасную дистанцию. Ходила, наблюдала со стороны. А потом на «Книге» из безопасной ситуации провалилась в опасную... Моя знакомая не включалась в беседу, не была тем, кто говорил, но все вопросы прокручивала через себя. Соединение наблюдения со стороны с тем, как оказаться в эпицентре. Многие мысли, которые звучат в «Актрисе», оказались созвучны тем, что мы проговаривали в «Книге». Вот это всё вместе дало ей такой многоплановый эффект. На этом «Лес» и построен, на спонтанном монтаже частей в голове у зрителя.
Вы как раз на этом настаиваете: что нужно смотреть не менее трёх частей.
Да, потому что в этом монтаже есть смысл. Нужно пояснить, вчера была пятая глава: каждая встреча — это отдельная глава книги, которую вы пишете и, возможно, захотите когда-нибудь издать. Было сказано, что это будет «книга о невеликой режиссуре». Объясните нам, что такое невеликая режиссура? В конце нашего вчерашнего вечера я пытался это как-то сформулировать. Когда мне было 25 лет и я делал свои первые спектакли, то был скован ощущением своего бессилия, неловкости, неумелости. Казалось, то, что я делаю, не похоже на тот великий театр, в котором я как человек сформировался. Конечно, мы становимся настоящими театральными зрителями благодаря тому, что нам показалось шедевром. Нет общепризнанных шедевров, это оценочная категория. Но есть то, что мы видим гениальным. Для кого-то это «Братья и сёстры» Льва Додина. Для меня это «Отелло» Эймунтаса Някрошюса, «Школа для дураков» Андрея Могучего, «Калькверк» Кристиана Люпы. Это те спектакли, которые сделали меня тем, кто я есть.
К чему вас привёл тот творческий кризис?
Я думал о том, что не могу ставить как Някрошюс. На практике пришло понимание, что между тем, что делаешь, и теми великими вещами есть какая-то большая антропологическая пропасть. И если в спорте надо просто дольше заниматься и тогда ты прыгнешь на определённую дистанцию, то в искусстве это не вопрос накачивания мышц. Ты же видел огромное количество совершенно безжизненных спектаклей, сделанных опытными режиссёрами. Поэтому вопрос чего-то грандиозного — не вопрос опыта. Тем более мы знаем множество примеров великих первых спектаклей. Юрий Николаевич Бутусов: один из лучших спектаклей — «В ожидании Годо». Это его дипломная работа!
Видишь великий спектакль и понимаешь, что ты не в этой точке. Я очень долго находился во фрустрации: я так не умею. Что делать? И в какой-то момент меня спасла мысль: «Окей, Петра Фоменко из меня не вышло. Буду просто делать увлекательную жизнь для себя и своих друзей в городе Кирове». И в каком-то смысле слова я как бы на себя махнул рукой. Мы стали что-то сочинять, придумывать, делать. И вдруг через какое-то время я понял: то, что мы делаем, действительно меняет жизнь людей в городе к лучшему. Город становится лучше благодаря нашему «невеликому театру». Потому что можно сделать один спектакль, который станет шедевром, а можно создать среду. И в этой среде, предположим, нет такого как в чеховской «Чайке» — раньше были дубы, а сейчас одни пни.
И ЕСЛИ В СПОРТЕ НАДО ПРОСТО ДОЛЬШЕ ЗАНИМАТЬСЯ И ТОГДА ТЫ ПРЫГНЕШЬ НА ОПРЕДЕЛЁННУЮ ДИСТАНЦИЮ, ТО В ИСКУССТВЕ ЭТО НЕ ВОПРОС НАКАЧИВАНИЯ МЫШЦ. ТЫ ЖЕ ВИДЕЛ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО СОВЕРШЕННО БЕЗЖИЗНЕННЫХ СПЕКТАКЛЕЙ, СДЕЛАННЫХ ОПЫТНЫМИ РЕЖИССЁРАМИ. ПОЭТОМУ ВОПРОС ЧЕГО-ТО ГРАНДИОЗНОГО — НЕ ВОПРОС ОПЫТА. ТЕМ БОЛЕЕ МЫ ЗНАЕМ МНОЖЕСТВО ПРИМЕРОВ ВЕЛИКИХ ПЕРВЫХ СПЕКТАКЛЕЙ. ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ БУТУСОВ: ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ СПЕКТАКЛЕЙ — « В ОЖИДАНИИ ГОДО». ЭТО ЕГО ДИПЛОМНАЯ РАБОТА!
Иначе говоря, речь о децентрализации?
Да. Мне 25-летнему очень помогла бы такая книга, в которой было бы написано: «Не надо быть Петром Фоменко».
И музыка, звучащая по радио, и симфония — это всё музыка — но они выполняют разные задачи. Если нам сегодня по радио включат симфонию целиком, мы сдохнем. Сейчас по-другому устроена коммуникация с окружающим миром. Конечно, 50 лет назад люди слушали симфонии по радио, но и машин на улице не было. Вернее их было мало и они были медленные. Был другой мир. В этом отношении симфония, транслируемая по радио, имела мысль, продолжительность и т. д. Сейчас я включаю плеер, перебегая с одного места на другое, и мне нужен песенный формат, чтобы я включился сразу. Если я хочу послушать симфонию, я выбираю время, покупаю дорогие билеты, иду в филармонию, нахожу время, скрупулёзно выбираю программу. В
Анненкирхе позавчера был очень хороший концерт с программой сочинений Арво Пярта, коллектив «1703» играл. Я запланировал, купил билеты жене и дочери. В этом момент ты идёшь не просто музыку послушать, но и свою жизнь пересмотреть. Мне бы не хотелось, чтобы в этот вечер был сеанс спонтанной импровизации. Я пришёл послушать великую музыку, которая для меня много значит. С Арво Пяртом у меня очень личные отношения. Совсем другое дело, когда я надеваю наушники и включаю песню. И я не могу сказать, какая музыка для меня важнее. В одном случае я сверяю себя по какому-то камертону важных вещей, а музыка в плеере — это гигиена; как будто бы привожу себя в чувства, в фокус.
И музыка, звучащая по радио, и симфония — это всё музыка — но они выполняют разные задачи. Если нам сегодня по радио включат симфонию целиком, мы сдохнем. Сейчас по-другому устроена коммуникация с окружающим миром. Конечно, 50 лет назад люди слушали симфонии по радио, но и машин на улице не было. Вернее их было мало и они были медленные. Был другой мир. В этом отношении симфония, транслируемая по радио, имела мысль, продолжительность и т. д. Сейчас я включаю плеер, перебегая с одного места на другое, и мне нужен песенный формат, чтобы я включился сразу. Если я хочу послушать симфонию, я выбираю время, покупаю дорогие билеты, иду в филармонию, нахожу время, скрупулёзно выбираю программу. В
Анненкирхе позавчера был очень хороший концерт с программой сочинений Арво Пярта, коллектив «1703» играл. Я запланировал, купил билеты жене и дочери. В этом момент ты идёшь не просто музыку послушать, но и свою жизнь пересмотреть. Мне бы не хотелось, чтобы в этот вечер был сеанс спонтанной импровизации. Я пришёл послушать великую музыку, которая для меня много значит. С Арво Пяртом у меня очень личные отношения. Совсем другое дело, когда я надеваю наушники и включаю песню. И я не могу сказать, какая музыка для меня важнее. В одном случае я сверяю себя по какому-то камертону важных вещей, а музыка в плеере — это гигиена; как будто бы привожу себя в чувства, в фокус.
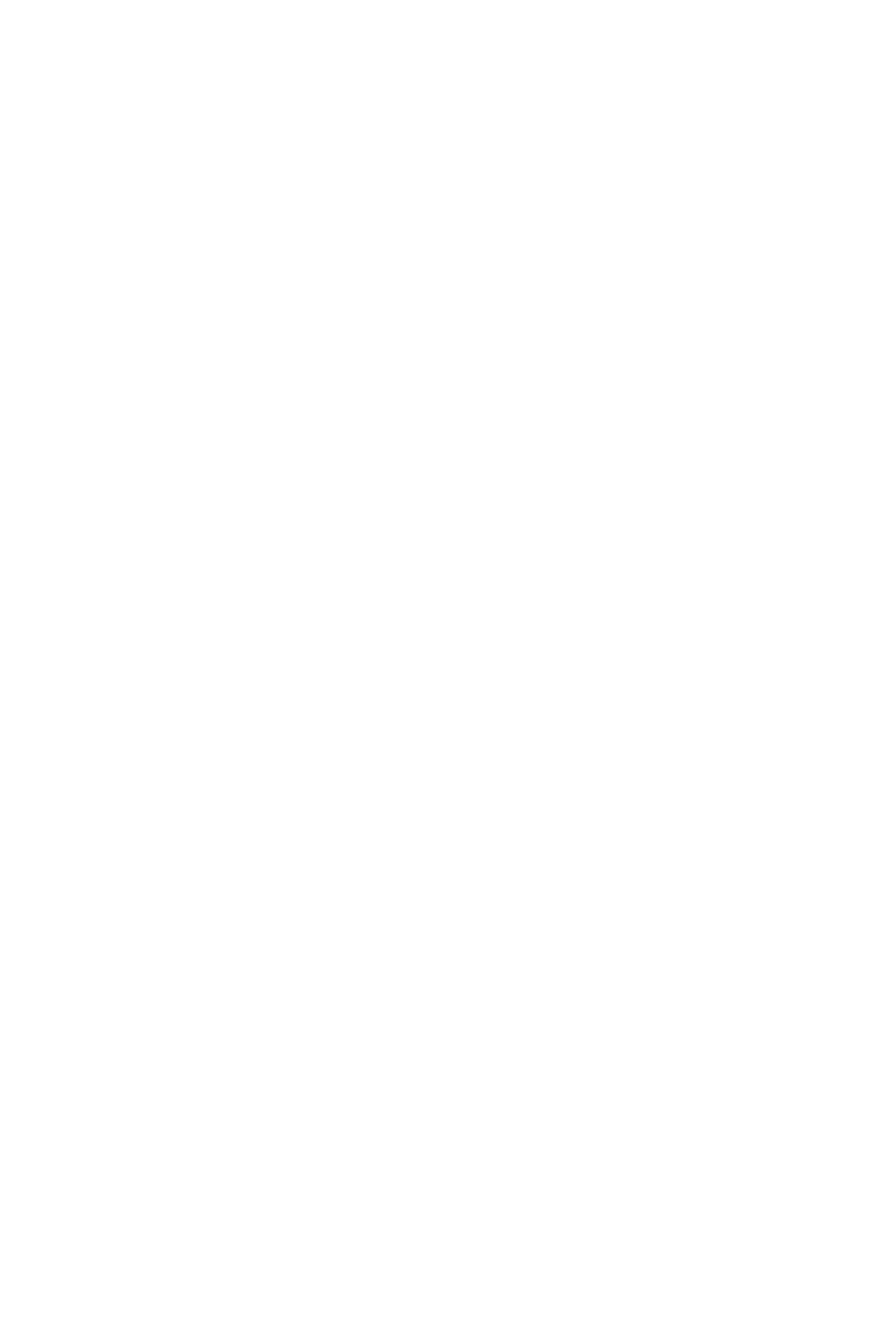
Вы меломан? Но при этом вы не связаны с музыкой?
Я как зритель говорю о музыке. Для меня эта меломанская тема очень важна. Поэтому привожу пример с музыкой, не из своей профессии. История про «невеликую режиссуру» — это про разные концепции театра. Есть музыка большой формы и стиля, а есть то, что организует повседневность.
Здесь мне вспомнился термин Бибихина «репрессивное искусство», о котором шла речь в «Лес.Письма».
Это не у Бибихина, это у Седаковой в переписке. Она говорит о Рембрандте: «Я поклонница старого доброго репрессивного искусства». Но дело не в том, что есть старое и новое. Наверное, здесь надо говорить об абсолютном высказывании. Условно: великая режиссура и стремление к ней связано с неким абсолютным высказыванием, с желанием себя выразить, высказать. Что такое великое искусство? Это желание победить смерть. Я думаю, это серьёзная задача. Право на «репрессивное искусство», если пользоваться термином Ольги Седаковой, право на всё что угодно, на любые выразительные средства, художник получает, потому что он выполняет задачу, которая стоит перед всем человечеством, — бессмертие. Шостакович или Леонардо да Винчи имеют право на наше внимание, на прямой монолог. У них не может быть выбора, что этично, что неэтично. Они обязаны выговориться, не задумываясь о том, как будет воспринято их высказывание. Вопрос преодоления смерти. И это вопрос, перед которым художник рано или поздно оказывается. Но помимо этого вопроса бессмертия – «что дальше?» – есть вопрос «а что здесь?». Вопрос организации этой жизни.
Здесь мне вспомнился термин Бибихина «репрессивное искусство», о котором шла речь в «Лес.Письма».
Это не у Бибихина, это у Седаковой в переписке. Она говорит о Рембрандте: «Я поклонница старого доброго репрессивного искусства». Но дело не в том, что есть старое и новое. Наверное, здесь надо говорить об абсолютном высказывании. Условно: великая режиссура и стремление к ней связано с неким абсолютным высказыванием, с желанием себя выразить, высказать. Что такое великое искусство? Это желание победить смерть. Я думаю, это серьёзная задача. Право на «репрессивное искусство», если пользоваться термином Ольги Седаковой, право на всё что угодно, на любые выразительные средства, художник получает, потому что он выполняет задачу, которая стоит перед всем человечеством, — бессмертие. Шостакович или Леонардо да Винчи имеют право на наше внимание, на прямой монолог. У них не может быть выбора, что этично, что неэтично. Они обязаны выговориться, не задумываясь о том, как будет воспринято их высказывание. Вопрос преодоления смерти. И это вопрос, перед которым художник рано или поздно оказывается. Но помимо этого вопроса бессмертия – «что дальше?» – есть вопрос «а что здесь?». Вопрос организации этой жизни.
Он должен помогать жить?
Да. Или вообще и быть жизнью.
Тема пятой главы (т.е. пятой встречи «Лес. Книга») — путь одиночки. И вы приводили примеры из книги Эрнста Юнгера «Уход в лес», после чего возник дискурс о жизнеутверждающем и депрессивном восприятии того, что писал Юнгер.
Юнгер говорит, что если ты живёшь посреди диктатуры, тебя хотят уничтожить – уходи в лес. Для чего? Чтобы выжить! И в результате – победить. Значит чем занимается Юнгер? Утверждает жизнь. Он не утешает и не говорит, что всё будет хорошо. А что у тебя есть надежда уйти в лес: найти тайную тропу, которая выведет тебя из этого ада. Очень жизнеутверждающая мысль. Но о каком позитиве может идти речь, когда бомбят города? Искусство должно говорить, что «всё будет хорошо»?
В последнее время везде звучит вопрос: возможен ли сейчас театр? Как я понимаю, он больше относится к зрелищному типу театра.
Любой театр должен ответить — зачем он? Любой. Я говорю о театре не как об интертейменте, а как о способе коммуникации. Поэтому вопрос «зачем театр?» звучит ровно так же, как «зачем общаться?». Можно устроить весёлую вечеринку, пообщаться и потусить... Наверное, будет пир во время чумы. Но нужно ли людям встречаться, чтобы проговаривать то, что у них болит, и находить какие-то средства сопротивления, стратегии выживания? Конечно, нужно. Мы должны встречаться. Театр как место встречи и прямого диалога очень нужен.
Тема пятой главы (т.е. пятой встречи «Лес. Книга») — путь одиночки. И вы приводили примеры из книги Эрнста Юнгера «Уход в лес», после чего возник дискурс о жизнеутверждающем и депрессивном восприятии того, что писал Юнгер.
Юнгер говорит, что если ты живёшь посреди диктатуры, тебя хотят уничтожить – уходи в лес. Для чего? Чтобы выжить! И в результате – победить. Значит чем занимается Юнгер? Утверждает жизнь. Он не утешает и не говорит, что всё будет хорошо. А что у тебя есть надежда уйти в лес: найти тайную тропу, которая выведет тебя из этого ада. Очень жизнеутверждающая мысль. Но о каком позитиве может идти речь, когда бомбят города? Искусство должно говорить, что «всё будет хорошо»?
В последнее время везде звучит вопрос: возможен ли сейчас театр? Как я понимаю, он больше относится к зрелищному типу театра.
Любой театр должен ответить — зачем он? Любой. Я говорю о театре не как об интертейменте, а как о способе коммуникации. Поэтому вопрос «зачем театр?» звучит ровно так же, как «зачем общаться?». Можно устроить весёлую вечеринку, пообщаться и потусить... Наверное, будет пир во время чумы. Но нужно ли людям встречаться, чтобы проговаривать то, что у них болит, и находить какие-то средства сопротивления, стратегии выживания? Конечно, нужно. Мы должны встречаться. Театр как место встречи и прямого диалога очень нужен.
При этом вы параллельно ставите в Театре им. Ленсовета, «На Литейном» и БДТ спектакли традиционного формата.
Вы знаете, мы собираемся с артистами и говорим ровно об этом же. Я просто выбрал такую форму коммуникации. Возможно, я мог бы заниматься педагогикой, читать лекции в университете или школе. В своё время я делал и то другое. Для меня театр — это про то, что мы сейчас с этими людьми живём кусок жизни и прикладываем его к определённому произведению. Мы с помощью этого произведения получаем пищу для разговоров. Я стараюсь устроить свои спектакли так, чтобы они не были манипулятивными по отношению к зрителю. Мой театр никогда не будет популярен, потому что его всегда нужно достраивать зрителю. Мои спектакли всегда немного «скучные», в том смысле, что там не все пазлы есть. Я предлагаю зрителю пространство частичной пустоты, в которое он может войти и оказаться наедине с какими-то вещами. Для себя я обозначаю, что занимаюсь театральной феноменологией (по Гуссерлю) — предъявление того, что уже есть. Например, людей.
Когда люди исчезают, остаются стороны конфликта. Происходит грандиозное расчеловечивание, которое мы вокруг наблюдаем. И я понимаю, что занимаюсь вещами, связанными с обострением эмпатии. Сам с собой этим занимаюсь, с артистами. Дело не в том, чтобы накачивать лозунги, ведь по большому счёту они похожи со всех сторон.
Что в Кирове, что в «Лесу», что в проекте «Разговоры» я занимаюсь тем, что напоминаю — мы не ресурс. Зритель не ресурс для театра. Актёры не ресурс для зрителей. Мы люди, которые встретились.
Когда люди исчезают, остаются стороны конфликта. Происходит грандиозное расчеловечивание, которое мы вокруг наблюдаем. И я понимаю, что занимаюсь вещами, связанными с обострением эмпатии. Сам с собой этим занимаюсь, с артистами. Дело не в том, чтобы накачивать лозунги, ведь по большому счёту они похожи со всех сторон.
Что в Кирове, что в «Лесу», что в проекте «Разговоры» я занимаюсь тем, что напоминаю — мы не ресурс. Зритель не ресурс для театра. Актёры не ресурс для зрителей. Мы люди, которые встретились.
ДЛЯ МЕНЯ ТЕАТР — ЭТО ПРО ТО, ЧТО МЫ СЕЙЧАС С ЭТИМИ ЛЮДЬМИ ЖИВЁМ КУСОК ЖИЗНИ И ПРИКЛАДЫВАЕМ ЕГО К ОПРЕДЕЛЁННОМУ ПРОИЗВЕДЕНИЮ. МЫ С ПОМОЩЬЮ ЭТОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПОЛУЧАЕМ ПИЩУ ДЛЯ РАЗГОВОРОВ.
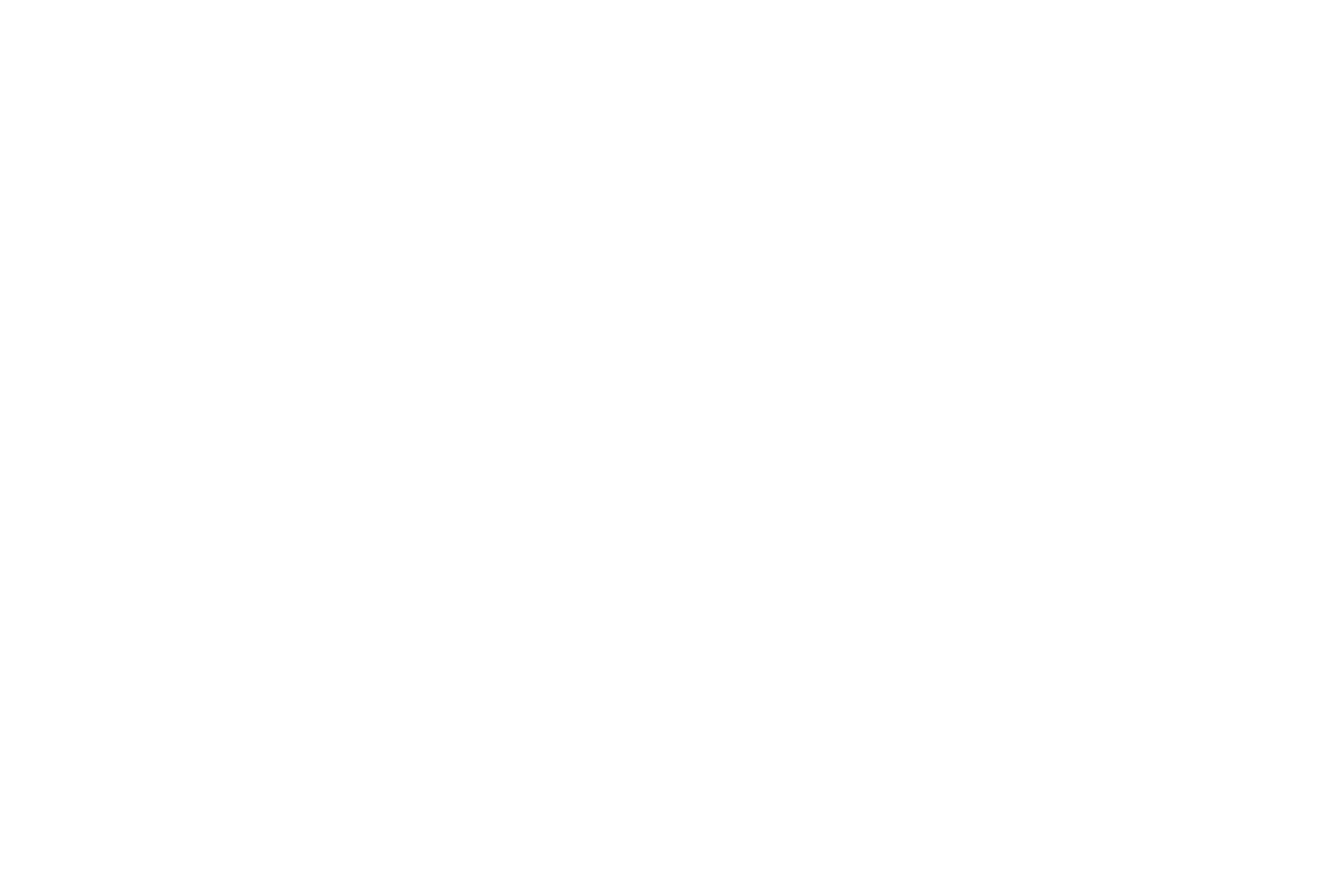
Это основа горизонтального театра?
Здесь уже сложно сказать. Чтобы эта конструкция заработала, должна появиться вертикаль темы. Если будем просто смотреть друг на друга, мы очень быстро начнём друг друга бесить. У нас быстро наступит то самое расчеловечивание. Мы глядим друг на друга, потому что у нас друг к другу есть вопрос. Должен завязаться диалог между нами. Чтобы появился диалог, нужна тема. А это вертикаль. И как в любой системе координат, горизонталь и вертикаль нужны друг другу. Если есть только вертикаль — война. Если только горизонталь, мы очень быстро изнашиваемся.
Получается «Лес» — это соединение горизонтали и вертикали?
Лес как образ — это крест по Бибихину.
Вы довольно долго сосуществовали с текстами Бибихина, прежде чем его ставить как спектакль. В подкасте «Леса» вы рассказываете о том, как ежедневно гуляли по Омску, слушая аудиозаписи лекций в наушниках, и переполнились настолько, что стало невозможно не поделиться. Однажды вы заговорили об этом с актрисой Ксений Плюсниной, с которой теперь вы вместе делаете «Лес.Книга», и с этого всё началось. Что происходило дальше? Как создавалась команда проекта?
Это началось зимой 2019-2020 гг. и распространялось через сарафанное радио. Вначале — абсолютно актёрская история. Мы сидели в кафе с Ксюшей Плюсниной, говорили о туманном будущем наших независимых коллективов. Решили попробовать сделать что-нибудь вместе. Тогда встретились коллективы «Разговоры» и Социально-Художественный театр. Постепенно часть людей ушла, и наоборот, появились новые, с кем мы ранее даже не были знакомы – например, Ангелина Засенцева, Оля Мирошникова, Таня Шуклина. Звёзды первой сессии «Леса». Сегодня в составе «Леса» буквально несколько артистов из тех, кто были на первых встречах.
Получается «Лес» — это соединение горизонтали и вертикали?
Лес как образ — это крест по Бибихину.
Вы довольно долго сосуществовали с текстами Бибихина, прежде чем его ставить как спектакль. В подкасте «Леса» вы рассказываете о том, как ежедневно гуляли по Омску, слушая аудиозаписи лекций в наушниках, и переполнились настолько, что стало невозможно не поделиться. Однажды вы заговорили об этом с актрисой Ксений Плюсниной, с которой теперь вы вместе делаете «Лес.Книга», и с этого всё началось. Что происходило дальше? Как создавалась команда проекта?
Это началось зимой 2019-2020 гг. и распространялось через сарафанное радио. Вначале — абсолютно актёрская история. Мы сидели в кафе с Ксюшей Плюсниной, говорили о туманном будущем наших независимых коллективов. Решили попробовать сделать что-нибудь вместе. Тогда встретились коллективы «Разговоры» и Социально-Художественный театр. Постепенно часть людей ушла, и наоборот, появились новые, с кем мы ранее даже не были знакомы – например, Ангелина Засенцева, Оля Мирошникова, Таня Шуклина. Звёзды первой сессии «Леса». Сегодня в составе «Леса» буквально несколько артистов из тех, кто были на первых встречах.
И КАК В ЛЮБОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ, ГОРИЗОНТАЛЬ И ВЕРТИКАЛЬ НУЖНЫ ДРУГ ДРУГУ. ЕСЛИ ЕСТЬ ТОЛЬКО ВЕРТИКАЛЬ — ВОЙНА. ЕСЛИ ТОЛЬКО ГОРИЗОНТАЛЬ, МЫ ОЧЕНЬ БЫСТРО ИЗНАШИВАЕМСЯ.
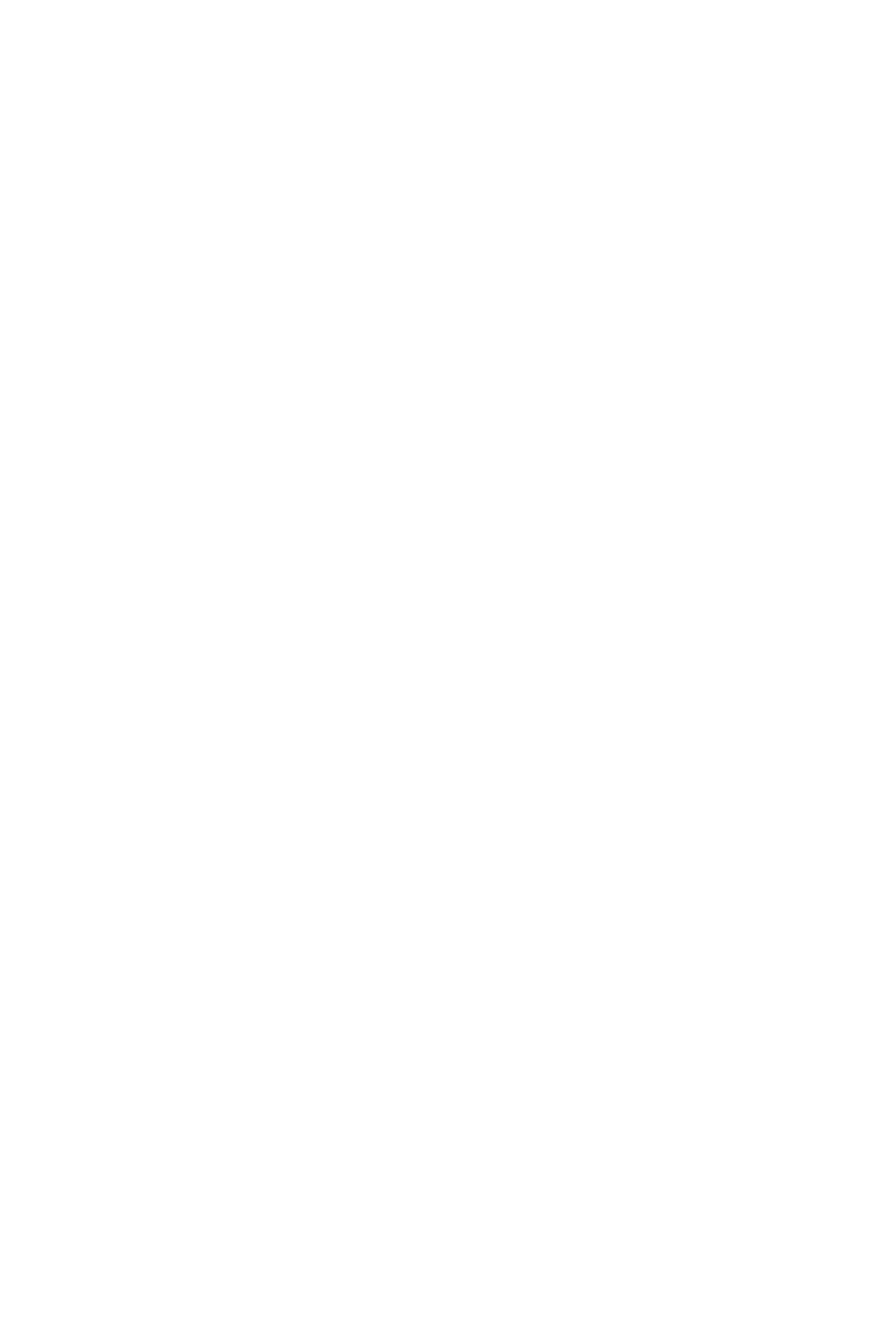
Когда я задумалась о том, как всё это работает, то у меня возник вопрос: как не уйти в энтропию? Бесконечное расширение всегда этим грозит.
Да. И я считаю, что «Лес» не бессмертен. Он проживёт столько, сколько ему нужно. У меня нет по этому поводу переживаний. У нас нет задачи сделать его вечным. Делая первую сессию, мы исходили из того, что она может быть единственной. Здесь же нет никаких обязательств. То, как существует «Лес», я так живу всегда. Вокруг меня город, который наполнен бесконечным количеством удивительных людей. Мы встречаемся и расстаёмся, а наши встречи что-то приносят друг другу.
Я в «Лесу» живу уже много лет: в лесу взаимных встреч и пересечений.
Примагничиваете людей с таким же мышлением. Неравнодушных к философии.
Философия имеет значение именно в проекте «Лес», но мы намагничиваемся не обязательно на почве философии. У нас в Петербурге существуют люди неравнодушные к теме инклюзии. И мы тоже намагничены, мы тоже знаем друг друга, интересны друг другу, мы встречаемся. На этой почве родилась «Школа социального театра». В общей сложности тридцать человек из разных городов и регионов России. И это ещё один круг — люди, которые намагнитились, объединились. Они нужны друг другу как почва.
Я в «Лесу» живу уже много лет: в лесу взаимных встреч и пересечений.
Примагничиваете людей с таким же мышлением. Неравнодушных к философии.
Философия имеет значение именно в проекте «Лес», но мы намагничиваемся не обязательно на почве философии. У нас в Петербурге существуют люди неравнодушные к теме инклюзии. И мы тоже намагничены, мы тоже знаем друг друга, интересны друг другу, мы встречаемся. На этой почве родилась «Школа социального театра». В общей сложности тридцать человек из разных городов и регионов России. И это ещё один круг — люди, которые намагнитились, объединились. Они нужны друг другу как почва.
Кстати, про регионы: насколько я знаю, «Лес» расширяется в другие города.
Да. Киров, Тюмень. Это тоже только дружеские связи. Александрина Шаклеева, которая запустила шар «Леса» в Тюмени, пришла на спектакль «Лес.Ангелина» и увидела что-то, чему ей захотелось дать продолжение. Сказала: «Я кину клич в Тюмени». Там нашёлся философ Герман Преображенский, который был знаком с Бибихином лично, куратор Оксана Сысоева, нашлись художники, сказавшие, что нам это интересно, мы занимаемся эко-артом. Нашлись люди, которые стали приходить на ридинги. У них там всё происходит совсем не так. У нас, например, до сих пор нет ридингов Бибихина, потому что всё фильтруется на драматическом театре. [В мае, к моменту выхода интервью, на Новой сцене Александринского театра состоялись три встречи цикла «Лес.Ридинги» – прим. ред.] Но «Лес» изначально про рефлексию, самосознание.
Насколько это сценично или несценично?
Я нашёл у себя запись про сценичное и несценичное вчера в своих старых записях, когда перебирал тетрадку, готовясь к встрече. Там есть такой тезис: «Что такое сценичное? Это то, что заставляет тебя вглядываться. Раз театр – то место, где смотрят, – то сценичен тот текст, который провоцирует вопросительное пространство, куда интересно смотреть. Следовательно сценичный текст — не там, где слева написано, кто говорит, а справа, что говорит, а это текст, который создаёт для меня, артистов и зрителей вопросительное пространство». Поэтому сценичность текста определяется не свойствами самого текста, а тем, насколько он интересен читателям, то есть актёрской группе. Поэтому не существует сценичного или несценичного текста самого по себе. Есть текст сценичный в данном случае для Павловича.
Для меня, например, пьесы Чехова несценичны. Сделано уже столько спектаклей, что я стою перед кирпичной стеной, не понимаю, что ещё можно сказать. Они меня очень трогают, но они несценичны. Мне на сцене с ними нечего делать. Я видел уже такое количество спектаклей по Чехову, что не понимаю, зачем туда ходить. В этом лесу все грибы уже собрали.
А Юрий Николаевич Бутусов, который составил славу последних лет Театра им. Ленсовета, поставил все пьесы Чехова. Потому что для него именно то, что текст всем известен, является сценичным. Ему сложно иметь дело с текстом, за которым нет «мифологического хвоста». Разный подход к тому, что нужно. Кому-то исторический хвост, контекст, объём вопросов литературных — это сценично. Для другого — чтобы был классный текст, как музыка. Для кого-то ещё важна интрига: что будет дальше? У каждого свой критерий сценичности. Для меня текст должен быть парадоксальным и, самое главное, он должен дать возможность нам с артистами самим что-нибудь сочинить. Я совершенно не могу иметь дело с сюжетной пьесой, потому что я будто парализован сюжетом. Ловлю себя на том, что начинаю вязнуть, когда мне нужно обслужить сюжет.
Для меня, например, пьесы Чехова несценичны. Сделано уже столько спектаклей, что я стою перед кирпичной стеной, не понимаю, что ещё можно сказать. Они меня очень трогают, но они несценичны. Мне на сцене с ними нечего делать. Я видел уже такое количество спектаклей по Чехову, что не понимаю, зачем туда ходить. В этом лесу все грибы уже собрали.
А Юрий Николаевич Бутусов, который составил славу последних лет Театра им. Ленсовета, поставил все пьесы Чехова. Потому что для него именно то, что текст всем известен, является сценичным. Ему сложно иметь дело с текстом, за которым нет «мифологического хвоста». Разный подход к тому, что нужно. Кому-то исторический хвост, контекст, объём вопросов литературных — это сценично. Для другого — чтобы был классный текст, как музыка. Для кого-то ещё важна интрига: что будет дальше? У каждого свой критерий сценичности. Для меня текст должен быть парадоксальным и, самое главное, он должен дать возможность нам с артистами самим что-нибудь сочинить. Я совершенно не могу иметь дело с сюжетной пьесой, потому что я будто парализован сюжетом. Ловлю себя на том, что начинаю вязнуть, когда мне нужно обслужить сюжет.
У КАЖДОГО СВОЙ КРИТЕРИЙ СЦЕНИЧНОСТИ. ДЛЯ МЕНЯ ТЕКСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПАРАДОКСАЛЬНЫМ И, САМОЕ ГЛАВНОЕ, ОН ДОЛЖЕН ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ НАМ С АРТИСТАМИ САМИМ ЧТО-НИБУДЬ СОЧИНИТЬ.
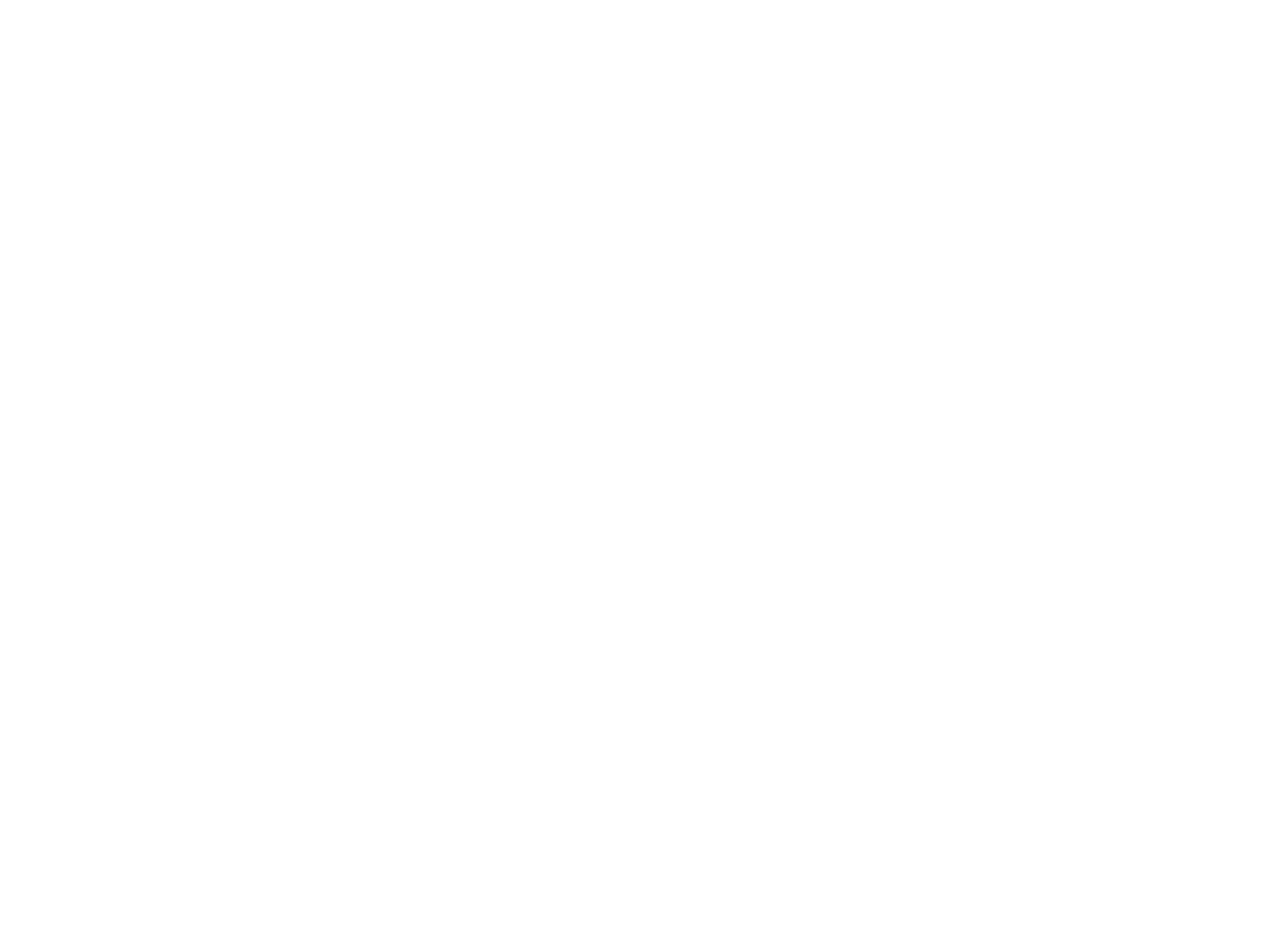
Я заметила, что молодое и среднее поколение режиссёров чаще всего работает не с пьесами.
Для нашего поколения там нет энергии, потому что историю с сюжетом взяли на себя телесериалы. Но «Лес» как раз спектакль-сериал. Безусловно, сериал — модель нашего времени. Не единственное событие, а множественное. Но если ты хочешь делать сюжет, тебе нужно идти в кино. В театре сделать сюжетный сериал технологически сложно. Это тяжеловесно. «Лес» может быть сериалом, так как самое интересное, в каком порядке ты будешь смотреть части. Можно в любом. Как сериал «Чёрное зеркало». Альманах. Ты сам в своей голове всё склеиваешь.
В этом смысле вы явный ученик Бутусова, ведь он заявляет о том, что зритель приходит в театр не развлекаться, а работать и думать.
Конечно, я в прямом смысле ученик Бутусова, я у него учился, на курсе Тростянецкого он был вторым педагогом. Не могу сказать, что я его последователь, мы занимаемся разным театром. Но могу сказать, что я ученик и Тростянецкого, своего мастера: он всегда нам говорил, что режиссура — это не про спектакль, а про событие. Что твоя задача — создать событие, которое взрывает эту реальность. Спектакль становится событием тогда, когда люди выходят из театра, а спектакль не закончился. Что такое событийный спектакль? Когда его обсуждают по городу. Хотя мы тоже с Геннадием Рафаиловичем Тростянецким занимаемся эстетически разными вещами, но... Бутусов сказал: зритель должен стать соучастником, он должен работать. Тростянецкий говорит, что ты как режиссёр работаешь не в театре, ты работаешь в городе. Может быть, он имел в виду что-то другое, но я сделал для себя такие выводы.
В этом смысле вы явный ученик Бутусова, ведь он заявляет о том, что зритель приходит в театр не развлекаться, а работать и думать.
Конечно, я в прямом смысле ученик Бутусова, я у него учился, на курсе Тростянецкого он был вторым педагогом. Не могу сказать, что я его последователь, мы занимаемся разным театром. Но могу сказать, что я ученик и Тростянецкого, своего мастера: он всегда нам говорил, что режиссура — это не про спектакль, а про событие. Что твоя задача — создать событие, которое взрывает эту реальность. Спектакль становится событием тогда, когда люди выходят из театра, а спектакль не закончился. Что такое событийный спектакль? Когда его обсуждают по городу. Хотя мы тоже с Геннадием Рафаиловичем Тростянецким занимаемся эстетически разными вещами, но... Бутусов сказал: зритель должен стать соучастником, он должен работать. Тростянецкий говорит, что ты как режиссёр работаешь не в театре, ты работаешь в городе. Может быть, он имел в виду что-то другое, но я сделал для себя такие выводы.
А кто из режиссёров ещё повлиял на ваше становление? Я знаю, что когда-то давно, в 2007 году, вы написали статью про польского театрального новатора Ежи Гротовского в сборнике «Вокруг Гротовского».
У Гротовского я взял концепцию «искусство как проводник». Искусство как средство передвижения — «Art as Vehicle». Гротовский в разные периоды делал разные подходы к тому, как искусство сделать проводником, как искусство сделать велосипедом, а не киноэкраном. На что ты сел и поехал куда-то. Но Гротовский занимался физическим театром. Театр голоса, движения, импульса. Я занимаюсь совсем другим. У меня нет такой психофизической перегрузки. Например то, что мы делаем с компанией «Разговоры» фонда «Альма Матер». Спектакль «Исследование ужаса» — это Art as Vehicle. Это мой ответ Гротовскому. Не зрелище, а велосипед. Каждый зритель куда-то едет, в свою параллельную реальность. Но не как у Андрия Жолдака, когда все оказываются во сне у Жолдака и перемещаются в его параллельную реальность. А в «Исследовании ужаса» каждый оказывался в своём сне. Кто-то оказывался в забавном сне, а кто-то в кошмаре. Спектакль давал человеку самокат и говорил — езжай!
Одна из последних работ Компании «Разговоры» — спектакль «Жаль, что тебя здесь нет» в Александринском театре. В нём тоже всё происходит таким образом?
Это наш эксперимент войти на территорию конвенционального театра, со сценой, зрительным залом. Если мы, актёры и режиссёры, от театра подустали, то для нашей нейроразнообразной команды театр — это что-то притягательное, потому что в их жизни было не много такого. И мы решили вместе с ними переизобрести традиционную театральную форму — мюзикл. Это вполне традиционный спектакль.
Но там есть место импровизации?
Не очень много. Не в импровизации дело. А в субъектности: в этой достаточно «железобетонной» форме возникают островки... Вот то, что мы делали вчера на спектакле “Лес.Книга”: просто Я. Понятно, что я в костюме, что я какой-то персонаж, но на самом деле нет, никакой я не персонаж, а просто я стою перед вами. И мне нравится, что в спектакле эти островки получаются. Он очень традиционный, но за счёт нейроразнообразной команды есть моменты, когда жанр начинает мерцать, возникает какой-то зазор интересный. Мы решили воспользоваться ситуацией, что Александринка предложила нам партнёрство. Мы решили оторваться и повеселиться.
Одна из последних работ Компании «Разговоры» — спектакль «Жаль, что тебя здесь нет» в Александринском театре. В нём тоже всё происходит таким образом?
Это наш эксперимент войти на территорию конвенционального театра, со сценой, зрительным залом. Если мы, актёры и режиссёры, от театра подустали, то для нашей нейроразнообразной команды театр — это что-то притягательное, потому что в их жизни было не много такого. И мы решили вместе с ними переизобрести традиционную театральную форму — мюзикл. Это вполне традиционный спектакль.
Но там есть место импровизации?
Не очень много. Не в импровизации дело. А в субъектности: в этой достаточно «железобетонной» форме возникают островки... Вот то, что мы делали вчера на спектакле “Лес.Книга”: просто Я. Понятно, что я в костюме, что я какой-то персонаж, но на самом деле нет, никакой я не персонаж, а просто я стою перед вами. И мне нравится, что в спектакле эти островки получаются. Он очень традиционный, но за счёт нейроразнообразной команды есть моменты, когда жанр начинает мерцать, возникает какой-то зазор интересный. Мы решили воспользоваться ситуацией, что Александринка предложила нам партнёрство. Мы решили оторваться и повеселиться.
А почему такое название?
Это дословный перевод альбома «Wish You Were Here» группы «Pink Floyd». Главного героя играет Павел Соломоник, выпускник центра «Антон тут рядом». Он так же, как и я, как и многие в нашей команде, меломан. Он очень любит играть с нами в викторины: «А вот знаешь такой альбом, где на обложке корова нарисована?»… Паша обожает это делать. И как-то из этих игр родилось название. С одной стороны, языковая калька. Но потом сложилось так, что оно начало работать, обрастать смыслами. Потому что действие происходит на вокзале. Это всегда расставание, люди ждут кого-то.
Потом, буквально за месяц до премьеры, один из участников коллектива «Разговоры», Влад Майоров, умер от рака. Больше года шла его борьба за жизнь. А он был инициатором идеи этого спектакля. Он первым однажды сказал «давайте сделаем музыкальный спектакль». Мы стали об этом думать и двигаться в этом направлении. Неожиданно тот человек, который больше всего хотел музыкальный спектакль, до него не дожил. Неожиданно «Жаль, что тебя здесь нет» оказалось про него. И в одной из сцен звучит его последний текст про то, как он выходит прогуляться, доходит до соседнего квартала и возвращается, потому что у него больше нет сил (он тогда уже ходил с палочкой). В переписке с Алиной Михайловой, нашим хореографом, он описал свой день. В спектакле никак это не маркировано, но для нас это важно. «Жаль, что тебя здесь нет» — наше посвящение ушедшему другу.
Потом, буквально за месяц до премьеры, один из участников коллектива «Разговоры», Влад Майоров, умер от рака. Больше года шла его борьба за жизнь. А он был инициатором идеи этого спектакля. Он первым однажды сказал «давайте сделаем музыкальный спектакль». Мы стали об этом думать и двигаться в этом направлении. Неожиданно тот человек, который больше всего хотел музыкальный спектакль, до него не дожил. Неожиданно «Жаль, что тебя здесь нет» оказалось про него. И в одной из сцен звучит его последний текст про то, как он выходит прогуляться, доходит до соседнего квартала и возвращается, потому что у него больше нет сил (он тогда уже ходил с палочкой). В переписке с Алиной Михайловой, нашим хореографом, он описал свой день. В спектакле никак это не маркировано, но для нас это важно. «Жаль, что тебя здесь нет» — наше посвящение ушедшему другу.
НЕОЖИДАННО ТОТ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БОЛЬШЕ ВСЕГО ХОТЕЛ МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ, ДО НЕГО НЕ ДОЖИЛ. НЕОЖИДАННО «ЖАЛЬ, ЧТО ТЕБЯ ЗДЕСЬ НЕТ» ОКАЗАЛОСЬ ПРО НЕГО.
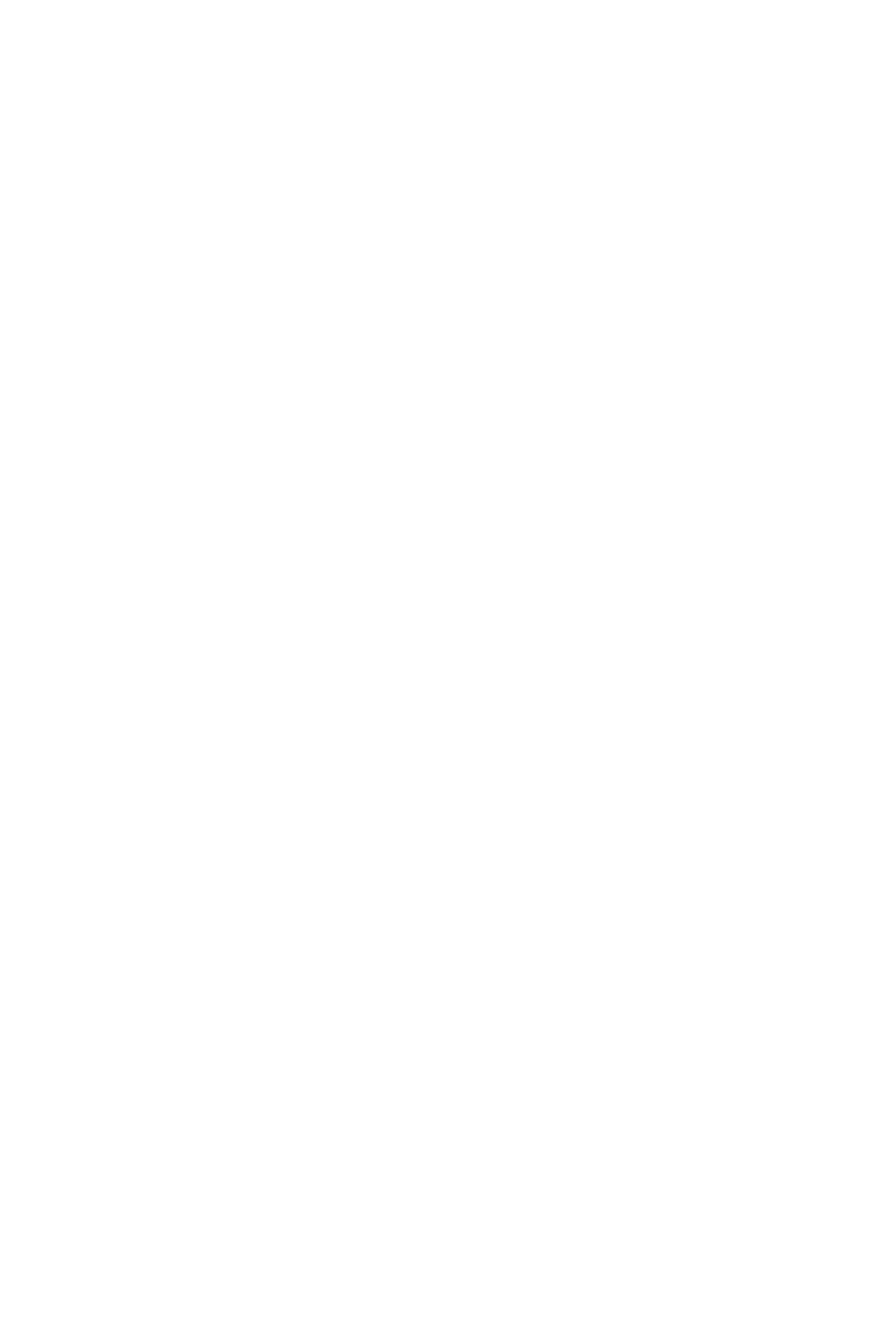
И напоследок, возвращаясь к «Лесу», я спрошу о новых частях во второй сессии. В первой их было тринадцать. Некоторые из них завершили своё существование, но появились другие.
Да, «Лес» работает над новыми частями: «Голос», «Откровения», «Тело», «Дрянь». И ещё лекции Кеши Башинского под названием «Лес.Зритель». А какие-то части уходят в историю. Ксюша Пономарёва с Ксюшей Плюсниной играли «Лес.Пустота» на чердаке дома зимой и это было содержательно. Это было про смерть. Они рассказывали про своих умерших отцов и фигуру пустоты на месте ушедшего отца. В основе был бибихинский текст про возвращение отцов и пустоту. У Бибихина пустоте многое посвящено. Спектакль очень-очень личный и актрисы сказали, что им нужно найти новые основания, возможно, они его переизобретут и сделают как-то по-другому. Для них эта работа на данный момент сделала своё дело.
А что сейчас с «Лес.Письма»? Будет ли он ещё показан? Ведь режиссёр Вероника Абдулмуминова недавно уехала из России.
Он должен быть в июне. Просто он один из наиболее сложных технически. «Лес. Письма» ближе всего традиционному театру, а это дорогая штука. Поскольку мы независимый проект (первая сессия прошла при поддержке гранта Комитета по культуре и были средства), эту постановку окупить сложно.
А что сейчас с «Лес.Письма»? Будет ли он ещё показан? Ведь режиссёр Вероника Абдулмуминова недавно уехала из России.
Он должен быть в июне. Просто он один из наиболее сложных технически. «Лес. Письма» ближе всего традиционному театру, а это дорогая штука. Поскольку мы независимый проект (первая сессия прошла при поддержке гранта Комитета по культуре и были средства), эту постановку окупить сложно.
В «Лесе» немаловажно, что он играется на разных площадках.
Конечно. Он прорастает по городу. Спектакль-путешествие. Мы с продюсером Алексеем Платуновым, которым была придумана концепция «Леса» как альманаха, идею формулировали так: зритель окажется в тех местах, где, может быть, он никогда бы не оказался. Люди, которые ходят в Театр им. Комиссаржевской никогда бы не оказались в баре на улице Жуковского, а посетители бара вряд ли заглянули бы в этот театр. Таким образом «Лес» позволяет заглянуть туда, куда ты просто так не зашёл бы. И это путешествие содержательно.
