В Антарктиду!
Максим Озерной – яхтсмен, морской химик и владелец парусной
яхты «Ксанаду» рассказал о своём походе в Антарктиду в
рамках исторической экспедиции «Антарктида 2020», раскрыл
смысл названия его яхты и поведал о задачах, которые ставила
перед собой экспедиция и сам Максим.
Узнавала о походе в Антарктиду на парусной яхте Дарья Грунина
Рассказывал Максим Игоревич Озерной
Фотографии из личного архива героя
Рассказывал Максим Игоревич Озерной
Фотографии из личного архива героя

Расскажите о том, как вы пришли в яхтинг?
Я не могу сказать, что вот так просто взял и пришёл в яхтинг, как приходят в какую-то спортивную секцию или на кружок. На самом деле я не моряк совсем. У меня не было никакого морского образования, морских навыков, как судоводителя. Но, тем не менее, море меня очень привлекало, как и множество других людей. И здесь счастливо сложились несколько обстоятельств. Некоторыми аспектами моря и морской химии я занимался профессионально в ЦНИИ Крылова и, кроме каких-то теоретических и лабораторных изысканий, я больше года провел в дальних походах на большом научном корабле «Академик Алексей Крылов». Это был конец 80-х годов, ещё при советской власти. Эта работа меня очень интересовала. Тогда у меня была возможность, как редко у кого — мы заходили в разные порты, в капиталистические страны, в Германию и на Канарские острова, в Марсель, Барселону, Афины. Мне было всего 24–25 лет — я был самым юным членом экипажа всего корабля. Мне повезло участвовать во всём этом научном процессе, начиная от постановки задачи и кончая интерпретацией нами же полученных результатов исследований. Наше оборудование позволяло исследовать в той или иной мере общеэкологические проблемы мирового океана. Например, районирование зон повышенного загрязнения — как далеко влияние портов и городов, стоящих на побережье, распространяется на химическую систему морской среды. Это вполне диссертационная работа
могла бы быть, но началась перестройка, закончился наш корабль — его «убили» в Севастополе, и я прекратил эти занятия, потому что не стало такой возможности.
Но любовь к океану меня не оставила. В какой-то момент я немножко вырос и вдруг понял, что могу самостоятельно что-то возродить, продолжить, вернуться в морскую тематику.
могла бы быть, но началась перестройка, закончился наш корабль — его «убили» в Севастополе, и я прекратил эти занятия, потому что не стало такой возможности.
Но любовь к океану меня не оставила. В какой-то момент я немножко вырос и вдруг понял, что могу самостоятельно что-то возродить, продолжить, вернуться в морскую тематику.
Как началась история ваших отношений с парусными яхтами?
На парусных лодках я стал ходить не так давно, наверное, в 2012 или 2013 году. Это действительно не сложно, есть очень коротенькие, буквально двух-трёх недельные курсы,
которые можно закончить. Не столько для того, чтобы получить какой-то документ, а сколько для того, чтобысебя проверить, и какие-то приобрести первичные навыки управления яхтой. И я это сделал, несколько раз мы с женой и друзьями брали яхты в аренду за границей. Катались в разных регионах, на Азорских островах, в Таиланде, в Норвегии.
Это несложные были походы, коротенькие, но они давали опыт и знания. Мне было важно себя как-то проверить, подготовиться. А потом, очень спонтанно, я встретил продающуюся яхту на Азорских островах и купил её. Это не бог весть какая сложная история и не сказать, что очень большие финансовые затраты. То есть квартирка-однушка где-нибудь на краю Петербурга стоит гораздо дороже, чем старенькая яхта. Поэтому всё определяется степенью твоего желания, внутренней мотивацией. Конечно же, не скажу, что я продал дом и жену для того, чтобы получить свою лодку.
Эту лодку с 2015 года я держал там же, на Азорских островах. Она старенькая, ей больше 40 лет, и мне нужно было понять техническое состояние, научиться её эксплуатировать, обслуживать, ремонтировать, жить на ней и ходить в море. Поэтому два-три сезона мы катались по Азорским островам, наматывая мили, получая опыт, штормуя иногда.
В это время я продолжил своё обучение в Петербургской парусной школе под названием «Санкт-Петербургские мореходные классы». Это заняло время с ноября по май месяц, пару-тройку раз в неделю мы приходили, слушали лекции, работали на компьютерных тренажёрах, учились вязать морские узлы, изучали экипировку, средства спасения, радиосвязь, знаки и сигналы, медицинские аспекты яхтинга, первую помощь, морское право — российское и международное, мореходную астрономию, метеорологию. К тому времени у меня уже была своя яхта, поэтому практические навыки я больше отрабатывал самостоятельно.
В этом заключалась такая глубоко предварительная подготовка, в смысле самосовершенствования.
которые можно закончить. Не столько для того, чтобы получить какой-то документ, а сколько для того, чтобысебя проверить, и какие-то приобрести первичные навыки управления яхтой. И я это сделал, несколько раз мы с женой и друзьями брали яхты в аренду за границей. Катались в разных регионах, на Азорских островах, в Таиланде, в Норвегии.
Это несложные были походы, коротенькие, но они давали опыт и знания. Мне было важно себя как-то проверить, подготовиться. А потом, очень спонтанно, я встретил продающуюся яхту на Азорских островах и купил её. Это не бог весть какая сложная история и не сказать, что очень большие финансовые затраты. То есть квартирка-однушка где-нибудь на краю Петербурга стоит гораздо дороже, чем старенькая яхта. Поэтому всё определяется степенью твоего желания, внутренней мотивацией. Конечно же, не скажу, что я продал дом и жену для того, чтобы получить свою лодку.
Эту лодку с 2015 года я держал там же, на Азорских островах. Она старенькая, ей больше 40 лет, и мне нужно было понять техническое состояние, научиться её эксплуатировать, обслуживать, ремонтировать, жить на ней и ходить в море. Поэтому два-три сезона мы катались по Азорским островам, наматывая мили, получая опыт, штормуя иногда.
В это время я продолжил своё обучение в Петербургской парусной школе под названием «Санкт-Петербургские мореходные классы». Это заняло время с ноября по май месяц, пару-тройку раз в неделю мы приходили, слушали лекции, работали на компьютерных тренажёрах, учились вязать морские узлы, изучали экипировку, средства спасения, радиосвязь, знаки и сигналы, медицинские аспекты яхтинга, первую помощь, морское право — российское и международное, мореходную астрономию, метеорологию. К тому времени у меня уже была своя яхта, поэтому практические навыки я больше отрабатывал самостоятельно.
В этом заключалась такая глубоко предварительная подготовка, в смысле самосовершенствования.
Вы участвовали в экспедиции Антарктида 2020, где на своей яхте «Ксанаду» проходили часть пути Беллинсгаузена и Лазарева. Расскажите о задачах этой экспедиции.
Задач экспедиции было сразу несколько — нам хотелось объять необъятное. Не так часто ты уходишь из Европы в Антарктиду, поэтому хотелось сделать всё, что возможно. Кроме задачи морской химии — это моя внутренняя, собственная задача, которую я сам себе поставил, следующий момент был, разумеется, исторический. У нас была историко-научная частная любительская учебная парусная экспедиция. Мы хотели повторить путь кораблей Беллинсгаузена и Лазарева, как бы в подтверждение того, что было 200 лет назад, но в совершенно других условиях. В общем и целом у нас это более-менее получилось.
Поскольку открытие нового материка было явлением цивилизационного масштаба, то такую задачу исторического юбилейного похода поставили совершенно независимо ещё многие другие яхты. В один момент перед выходом в Антарктиду, уже в Ушуайе, в январе-феврале месяце 2020 года мы собрались семью российскими яхтами. Плюс туда ещё пришли два больших корабля — «Крузенштерн» и «Паллада». Я обязан отметить, что мой «яхтенный босс», директор «СПб Мореходных классов» Сергей Валентинович Тимошков, капитан легендарного парусника «Мир» и мастер спорта международного класса, оказал неоценимую
помощь походу, и, по нашей просьбе, «работал» добровольным начальником штаба экспедиции в Петербурге, снабжая нас метеонавигационной и прочей технической информацией в течение всего плавания.
Поскольку открытие нового материка было явлением цивилизационного масштаба, то такую задачу исторического юбилейного похода поставили совершенно независимо ещё многие другие яхты. В один момент перед выходом в Антарктиду, уже в Ушуайе, в январе-феврале месяце 2020 года мы собрались семью российскими яхтами. Плюс туда ещё пришли два больших корабля — «Крузенштерн» и «Паллада». Я обязан отметить, что мой «яхтенный босс», директор «СПб Мореходных классов» Сергей Валентинович Тимошков, капитан легендарного парусника «Мир» и мастер спорта международного класса, оказал неоценимую
помощь походу, и, по нашей просьбе, «работал» добровольным начальником штаба экспедиции в Петербурге, снабжая нас метеонавигационной и прочей технической информацией в течение всего плавания.
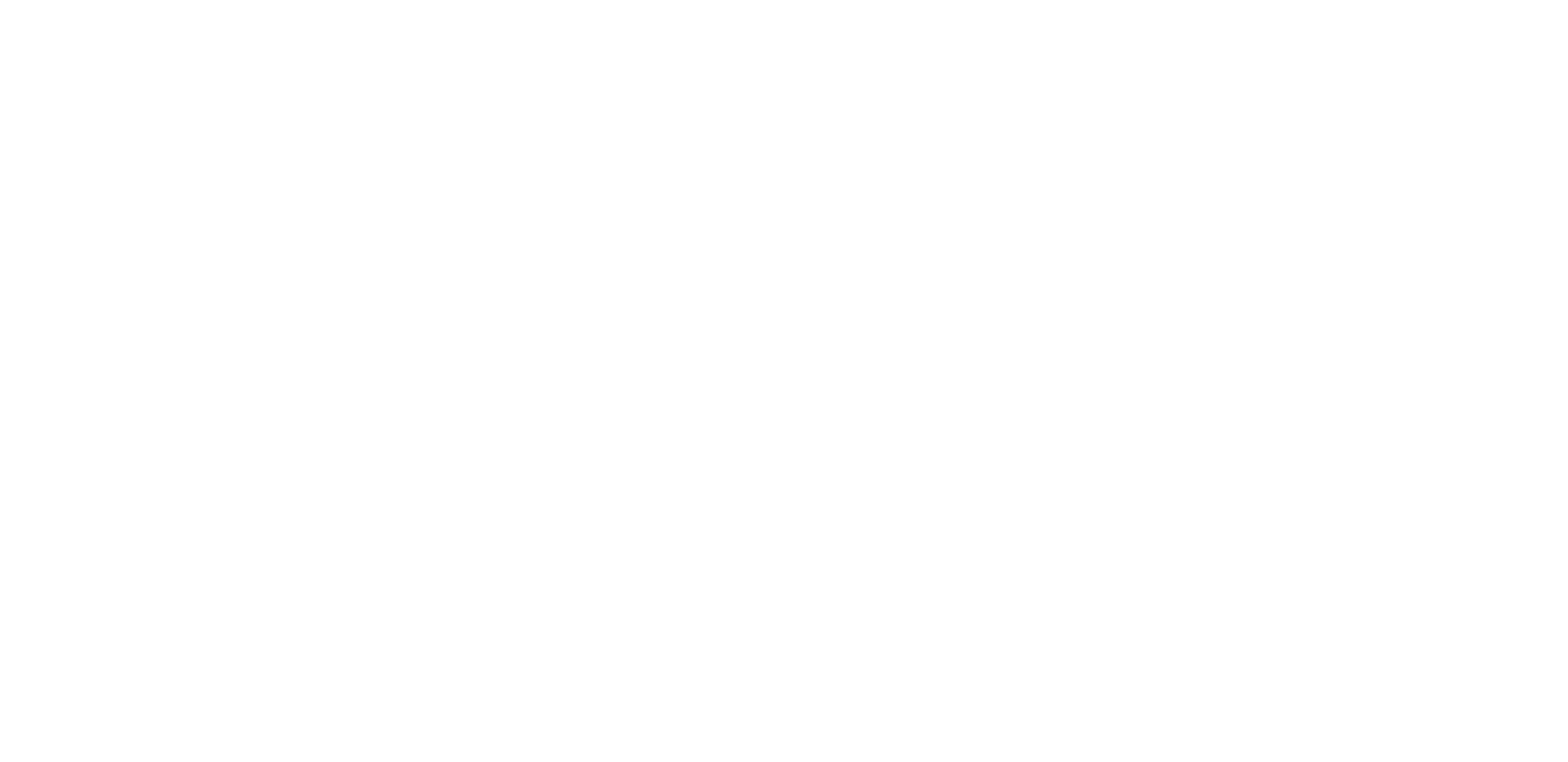
Какая конкретно задача в области морской химии стояла перед вами при путешествии в Антарктиду?
Это был наш фактически первый выход, и я скорее пытался отработать какие-то методические вопросы.
Я отрабатывал идеологию построения научно-измерительного комплекса. Потому что в отличие от серьёзной лаборатории, на яхте ничего особенного не позволишь в плане приборов и оборудования. У меня нет энергии, меня всё время качает, у меня нет постоянного экипажа, у меня нет возможности идти куда хочешь, а идёшь туда, куда позволяет погода. Соответственно формулирование задачи экологических измерений, наблюдений и состав измерительных приборов — это реально очень серьёзная задача. Я консультировался и в институте Арктики и Антарктики, и в институте Океанологии АН, в Московском институте Океанографии, в Питерском Гидромете с заведующим кафедрой океанологии много беседовали, обсуждая, какие исследования и измерения целесообразно проводить на борту яхты в ходе крейсерского плавания. Существует дилемма — либо простые измерения элементарных характеристик морской воды, что имеет невысокое научное значение, либо сложное, дорогое и энергоёмкое оборудование, что на яхте использовать практически невозможно. В результате компромиссов между «возможным и желаемым» мы укомплектовали лодку проточными анализаторами для контроля содержания и изменчивости углекислого газа как в морской воде, так и в атмосферном
воздухе, а также для определения рН, солёности, температуры, растворенного кислорода, прозрачности, солнечной радиации, метеопараметров. Поскольку углекислый газ является «парниковым газом» и оказывает важнейшее влияние на климат планеты, а океан активно регулирует удаление его избытков из атмосферы, мы надеемся внести определённый научный вклад в изучение процессов глобального потепления.
Я отрабатывал идеологию построения научно-измерительного комплекса. Потому что в отличие от серьёзной лаборатории, на яхте ничего особенного не позволишь в плане приборов и оборудования. У меня нет энергии, меня всё время качает, у меня нет постоянного экипажа, у меня нет возможности идти куда хочешь, а идёшь туда, куда позволяет погода. Соответственно формулирование задачи экологических измерений, наблюдений и состав измерительных приборов — это реально очень серьёзная задача. Я консультировался и в институте Арктики и Антарктики, и в институте Океанологии АН, в Московском институте Океанографии, в Питерском Гидромете с заведующим кафедрой океанологии много беседовали, обсуждая, какие исследования и измерения целесообразно проводить на борту яхты в ходе крейсерского плавания. Существует дилемма — либо простые измерения элементарных характеристик морской воды, что имеет невысокое научное значение, либо сложное, дорогое и энергоёмкое оборудование, что на яхте использовать практически невозможно. В результате компромиссов между «возможным и желаемым» мы укомплектовали лодку проточными анализаторами для контроля содержания и изменчивости углекислого газа как в морской воде, так и в атмосферном
воздухе, а также для определения рН, солёности, температуры, растворенного кислорода, прозрачности, солнечной радиации, метеопараметров. Поскольку углекислый газ является «парниковым газом» и оказывает важнейшее влияние на климат планеты, а океан активно регулирует удаление его избытков из атмосферы, мы надеемся внести определённый научный вклад в изучение процессов глобального потепления.
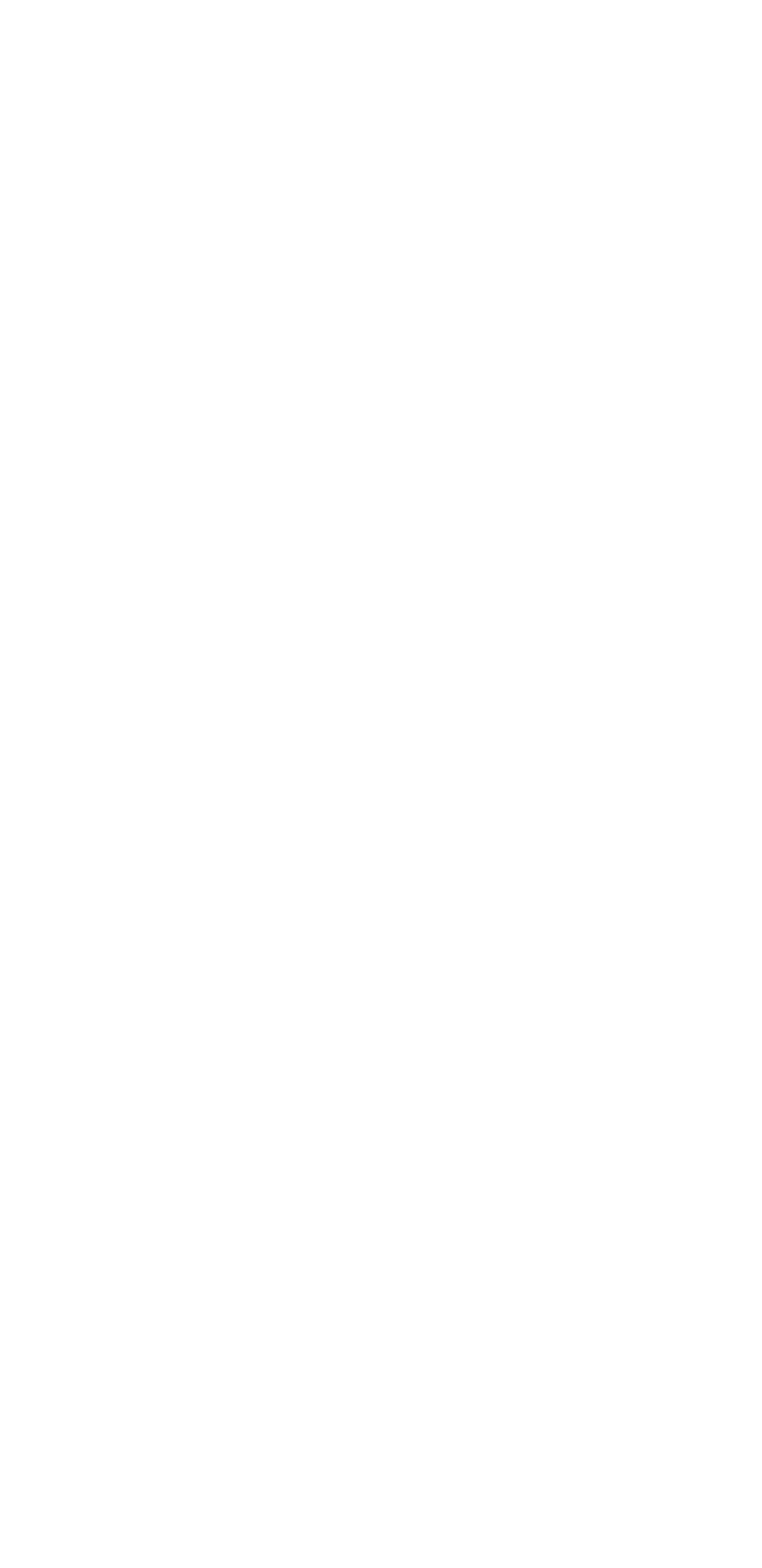
Кто ходил вместе с вами на «Ксанаду»?
Уменя на лодке побывало за этот поход 35 человек. В основном из Питера, но были и москвичи, жители Омска, Нижнего Новгорода, Оренбурга. Из них большая часть — это курсанты или выпускники Санкт-петербургской мореходной школы. Обычные люди, кто-то побогаче, кто-то победнее, у кого-то рабочие профессии — водитель такси, например. Были директора компаний, писатель, фото-блогер, мальчишка — молодой студент. Они этапами шли, не всю экспедицию — кто на неделю, кто на две недели, в зависимости от продолжительности переходов.
Люди воплотили свою мечту: пересекли Атлантический океан, прошлись вдоль южной Америки, Аргентины, поштормовали. Больше 10 человек со мной вместе обошли мыс Горн, что для яхтинга, вообще говоря, реальное достижение!
Люди воплотили свою мечту: пересекли Атлантический океан, прошлись вдоль южной Америки, Аргентины, поштормовали. Больше 10 человек со мной вместе обошли мыс Горн, что для яхтинга, вообще говоря, реальное достижение!
Это достижение именно из-за погодных условий?
Да. Из-за удалённости, погодных условий, ветров, волнений и, вообще, это как бы кладбище кораблей. Самый южный материковый мыс. Раньше моряку торгового флота, кто проходил мыс Горн, разрешалось вешать золотую серьгу в левое ухо — я себе повешу обязательно, не знаю только, две повесить или одной достаточно — и в случае, если он погибнет и его выбросит на берег, эту серьгу использовали, чтобы похоронить тело.
Расскажите о маршруте, который вы преодолели в прошедшей экспедиции.
Это не непрерывное плавание. Во-первых, непрерывно тяжело, да и зачем? Хотелось самим побывать в разных культовых местах, посмотреть и погулять, поменять экипаж. Тем более, что экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева тоже шла с остановками. Выйдя из Петербурга 16 июля 1819 года, они останавливались в Копенгагене, в Плимуте — в Англии, потом на Канарских островах, в Тенерифе. Ушли в Бразилию — в Рио-де-Жанейро, потом уже пошли дальше — южнее.
Соответственно, мы старались где-то так же остановиться. Выйдя из Франции, мы остановились в Порту португальском для того, чтобы сменить экипаж — там просто ребята не могли с нами дольше идти. Из португальского Порту мы рванули на Канарские острова — это был интересный переход, почти 1000 миль. По дороге ловили рыбу — тунцов, ваху, золотистую корифену или махи-махи называется, очень красивая рыба. На Канарах опять немножко поменялись, постояли. Мне там подвезли какие-то запчасти, заменили спасательный плот, и мы отправились на следующий южный архипелаг под названием Кабо-Верде или острова Зеленого мыса — это там, откуда родом Сезария Эвора — певица известная. Кабо-Верде, конечно же, меня поразили. Это бывшая португальская колония, они получили независимость где-то в середине 20 века, но вообще дыра дырой. Господи, я никогда больше не поеду на Кабо-Верде! Мы были немножко разочарованы, хотя климат там чудесный, близко к экватору и круглый год сплошное лето и самба дежанейро.
С Кабо-Верде как раз интересный дальний переход через экватор и всю Атлантику в бразильский порт Сальвадор. Сальвадор — это первая столица Бразилии, когда она ещё была португальской колонией. Потом столицу перенесли в Рио-де-Жанейро. В Сальвадоре очень интересно — это штат Байя, штат чёрных рабов, бывших рабов, конечно же. Из Сальвадора в Рио-де-Жанейро — мы не могли мимо пройти, и обязательно с экскурсией к памятнику Христу и по самому городу. Там очень живописно, необычно и интересно. Также в Сальвадоре мы встречались с совершенно потрясающим дядькой. Ему уже за 70. Его зовут Алейша Белов (Алексей Белов) на бразильский манер. Он известнейший яхтсмен, звезда Бразилии, пять раз сходил вокруг света на своих яхтах и в Антарктиду, и на Аляску. Он бизнесмен, меценат, путешественник и почетный гражданинСальвадора. Из Рио-де-Жанейро стали спускаться вниз,
хотели зайти в Буэнос-Айрес — навстречу река, сильный ветер, волны, мели и фарватеры для крупных судов. Нас всё время сбрасывало куда-то, и мы завернули в Уругвай, городок называется Пириаполис. Там целую неделю отдыхали, чинились, меняли экипаж, прекрасное ощущение осталось от Уругвая и от Пириаполиса в том числе. И дальше пошли на юг: Мар-дель-Плата, Аргентина и затем в Пуерто Десеадо. В Рио-Гальегос мы не заходили — мы бы не смогли туда зайти. Там река, сильное встречное течение, 10 миль по реке, против ветра и течения нам просто не пройти. Туда ни одна яхта не заходит. И дальше Ушуайя, путь в Антарктиду, мыс Горн и чилийский Пуэрто-Уильямс.
Везде мы встречались с очень интересными людьми, в том числе и с русскоговорящими. В Ушуайе, самом южном аргентинском городе, живёт целая колония, у них есть такое сообщество неформальное русскоговорящих в Ушуайе. Они нам помогали, мы там проводили время, чинили лодку, обедали, ужинали, менялись впечатлениями, дарили подарки. Весь мир очень тесен, совершенно тесен.
Соответственно, мы старались где-то так же остановиться. Выйдя из Франции, мы остановились в Порту португальском для того, чтобы сменить экипаж — там просто ребята не могли с нами дольше идти. Из португальского Порту мы рванули на Канарские острова — это был интересный переход, почти 1000 миль. По дороге ловили рыбу — тунцов, ваху, золотистую корифену или махи-махи называется, очень красивая рыба. На Канарах опять немножко поменялись, постояли. Мне там подвезли какие-то запчасти, заменили спасательный плот, и мы отправились на следующий южный архипелаг под названием Кабо-Верде или острова Зеленого мыса — это там, откуда родом Сезария Эвора — певица известная. Кабо-Верде, конечно же, меня поразили. Это бывшая португальская колония, они получили независимость где-то в середине 20 века, но вообще дыра дырой. Господи, я никогда больше не поеду на Кабо-Верде! Мы были немножко разочарованы, хотя климат там чудесный, близко к экватору и круглый год сплошное лето и самба дежанейро.
С Кабо-Верде как раз интересный дальний переход через экватор и всю Атлантику в бразильский порт Сальвадор. Сальвадор — это первая столица Бразилии, когда она ещё была португальской колонией. Потом столицу перенесли в Рио-де-Жанейро. В Сальвадоре очень интересно — это штат Байя, штат чёрных рабов, бывших рабов, конечно же. Из Сальвадора в Рио-де-Жанейро — мы не могли мимо пройти, и обязательно с экскурсией к памятнику Христу и по самому городу. Там очень живописно, необычно и интересно. Также в Сальвадоре мы встречались с совершенно потрясающим дядькой. Ему уже за 70. Его зовут Алейша Белов (Алексей Белов) на бразильский манер. Он известнейший яхтсмен, звезда Бразилии, пять раз сходил вокруг света на своих яхтах и в Антарктиду, и на Аляску. Он бизнесмен, меценат, путешественник и почетный гражданинСальвадора. Из Рио-де-Жанейро стали спускаться вниз,
хотели зайти в Буэнос-Айрес — навстречу река, сильный ветер, волны, мели и фарватеры для крупных судов. Нас всё время сбрасывало куда-то, и мы завернули в Уругвай, городок называется Пириаполис. Там целую неделю отдыхали, чинились, меняли экипаж, прекрасное ощущение осталось от Уругвая и от Пириаполиса в том числе. И дальше пошли на юг: Мар-дель-Плата, Аргентина и затем в Пуерто Десеадо. В Рио-Гальегос мы не заходили — мы бы не смогли туда зайти. Там река, сильное встречное течение, 10 миль по реке, против ветра и течения нам просто не пройти. Туда ни одна яхта не заходит. И дальше Ушуайя, путь в Антарктиду, мыс Горн и чилийский Пуэрто-Уильямс.
Везде мы встречались с очень интересными людьми, в том числе и с русскоговорящими. В Ушуайе, самом южном аргентинском городе, живёт целая колония, у них есть такое сообщество неформальное русскоговорящих в Ушуайе. Они нам помогали, мы там проводили время, чинили лодку, обедали, ужинали, менялись впечатлениями, дарили подарки. Весь мир очень тесен, совершенно тесен.
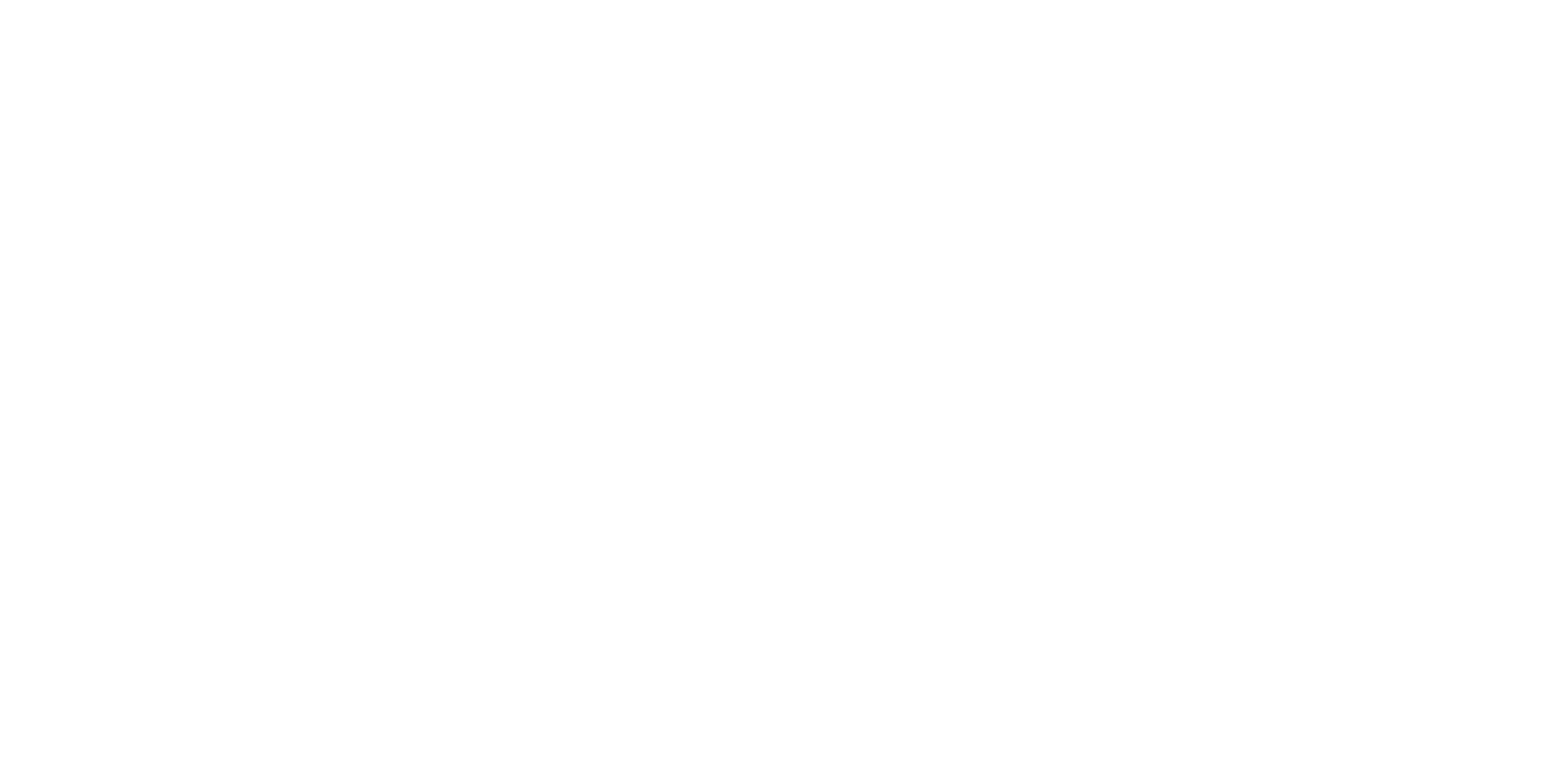
Издавна кораблям дают говорящие имена, скажите, какой смысл в имени вашей яхты?
Это фантастический вопрос и фантастическая история.
Яхта называется «Ксанаду» («XANADU»).
Эта лодка была построена в 76 году, в Калифорнии и при строительстве ей дали это имя. Его потом никто не менял, хотя хозяев было несколько в её жизни, в основном в Америке, и, в конце концов, я. Я стал интересоваться, а что же интересно это за имя такое? Поамерикански оно читается «Занаду», Португальцы ее называют «Шанаду» — особенности произношения буквы «Х». «Занаду» в Америке — это известное очень название. В 1940 году, 25-летний никому не известный мальчишка-режиссёр снял черно-белый фильм под названием «Гражданин Кейн».
Этот фильм до сих пор в списке 100 лучших фильмов всех времён и народов. Там такой злобно-общественно-политический сюжет про нехорошего владельца газет, магната, который был отрицательным персонажем. Так вот, у него был большой дом, можно сказать, замок во Флориде, который назывался «Xanadu». Но и это на самом деле искаженное китайское «Шаньду». Так назывался летний дворец китайского императора эпохи Минь, в который он уезжал вместе со своим двором и огромным количеством наложниц. И с древнекитайского смысл этого названия — «райское место на земле». «Шаньду» превратилось в «Занаду» в Америке. Американцы знают этот фильм и это название, поэтому они его воспринимают как «райское место на земле», к тому же ещё из знаменитого фильма. Явстречал несколько яхт и кораблей в интернете с названием «XANADU». Оно у меня не единственное. Поэтому отказываться от названия «райское место на земле» большого смысла нет.
Но это первая часть марлезонского балета, а вторая часть следующая: есть один дядечка,
который живет в Сиэтле, штат Вашингтон, на озере Вашингтон. У него есть очень известный большой дом, весь компьютеризированный, умный дом. У этого дома есть официальное название. Он называется «XanaduII», а дядечку зовут Билл Гейтс. Понятно, что «Xanadu II», потому что «Xanadu I» это моя яхта, а «Xanadu II» — это всего лишь дом Билла Гейтса.
О дальнейших планах «Ксанаду» и Максима Озерного вы можете услышать в шестом выпуске нашего подкаста «Гори оно всё!».
Яхта называется «Ксанаду» («XANADU»).
Эта лодка была построена в 76 году, в Калифорнии и при строительстве ей дали это имя. Его потом никто не менял, хотя хозяев было несколько в её жизни, в основном в Америке, и, в конце концов, я. Я стал интересоваться, а что же интересно это за имя такое? Поамерикански оно читается «Занаду», Португальцы ее называют «Шанаду» — особенности произношения буквы «Х». «Занаду» в Америке — это известное очень название. В 1940 году, 25-летний никому не известный мальчишка-режиссёр снял черно-белый фильм под названием «Гражданин Кейн».
Этот фильм до сих пор в списке 100 лучших фильмов всех времён и народов. Там такой злобно-общественно-политический сюжет про нехорошего владельца газет, магната, который был отрицательным персонажем. Так вот, у него был большой дом, можно сказать, замок во Флориде, который назывался «Xanadu». Но и это на самом деле искаженное китайское «Шаньду». Так назывался летний дворец китайского императора эпохи Минь, в который он уезжал вместе со своим двором и огромным количеством наложниц. И с древнекитайского смысл этого названия — «райское место на земле». «Шаньду» превратилось в «Занаду» в Америке. Американцы знают этот фильм и это название, поэтому они его воспринимают как «райское место на земле», к тому же ещё из знаменитого фильма. Явстречал несколько яхт и кораблей в интернете с названием «XANADU». Оно у меня не единственное. Поэтому отказываться от названия «райское место на земле» большого смысла нет.
Но это первая часть марлезонского балета, а вторая часть следующая: есть один дядечка,
который живет в Сиэтле, штат Вашингтон, на озере Вашингтон. У него есть очень известный большой дом, весь компьютеризированный, умный дом. У этого дома есть официальное название. Он называется «XanaduII», а дядечку зовут Билл Гейтс. Понятно, что «Xanadu II», потому что «Xanadu I» это моя яхта, а «Xanadu II» — это всего лишь дом Билла Гейтса.
О дальнейших планах «Ксанаду» и Максима Озерного вы можете услышать в шестом выпуске нашего подкаста «Гори оно всё!».
Когда я поступала, то ощущала, что я масло. Нет, я сыр, который катится в масле. Мне было так легко. Я видела, как рыдают люди, но внутри чувствовала, что я иду своей дорогой.
Моё! На одни пятёрки закончила, ни одной текущей четвёрки. Каждый день это кайф, кайф и кайф. Гуманитарное образование — шикарно. Мне есть, с чем сравнить. Те же самые предметы, что на ин.язе: та же история, тот же русский, та же литература, но как всё преподносится, какие педагоги! Какие они интеллигентные, какие воспитанные, какие они пропахнувшие серебряным веком! Какие они глубокие. И ты можешь где-то не подучить, но какой-то педагог увидел тебя, например, в роли Гамлета в дипломном спектакле, и скажет: «Катерина, вы не доучили, но вы так сыграли!» Все пять лет были самыми счастливыми годами в моей жизни. В принципе, мне и сейчас классно. Просто это не сравнить с тем, когда ты мучаешься.
Как несчастны дети, которых засунули насильно. Они тянут эту лямку, им плохо. Они умирают внутри каждый день, а каждый день нужно воскресать.
Это частая история, когда родители хотят одного, а ребёнок — другого. В какой-то момент появляется компромисс, родители соглашаются — не соглашаются, ребёнок страдает, переживает. Потом находит своё. Что бы вы посоветовали ребятам, которые ходят к вам в студию? Как сориентироваться, не растеряться, почувствовать, что это действительно твоё?
У меня в театральной студии сейчас занимаются дети 10, 11 и 12 лет. Они пришли ко мне 3 года назад. Я не набирала их, работала в студии как нанятое лицо. И с сентября этого года я отделилась: у меня теперь своя собственная студия, я там уже руководитель. У меня есть курс для взрослых, называется «Ты — актриса!». Также у меня есть детки четырёхлетние, два филиала на проспекте Просвещения и в Купчино, где как раз дети 10–12 лет.
Если говорить о детях, то я никогда не отношусь к ребёнку, как к ребёнку, в том плане, что я никогда не общаюсь с позиции «над».
Есть такая фраза знаменитого детского психолога: «Нет детей, есть люди».
Если кто-то верит в то, что мы — это наша душа, то может быть, например, такое, что у ребёнка, с которым ты общаешься, душа гораздо взрослее твоей. У тебя может быть инфантильная душа, а у ребёнка взрослее. И когда я общаюсь с ребёнком с позиции «душа», всё становится настолько просто.
Я очень люблю своих учеников, они очень любят меня. Мы находимся с ними в невероятном энергетическом обмене. Они у меня ни в коем случае не отсасывают энергию, а наоборот мне её дают. И я им говорю: «Не слушайте родителей, слушайте свою душу!»
Ваш художественный руководитель в недавнем интервью сказал, что хороший актёр — тот, кому постоянно что-то нужно. Как вы считаете, в чём заключается актёрский талант?
В огне. Я очень часто говорю своим детям: «Актёр должен гореть». У Андрея Жёлдука есть такая фраза: «Актёр,словно Прометей, должен жечь сердца людей и нести им свет». Вот выходит актёр на сцену, и он прямо «горит». Я имела честь сниматься вместе с Сергеем Безруковым. С ним невозможно стоять, от него прёт жар. Такое ощущение, что он может прямо горы ворочать. Вокруг него все как-то поджигаются, начинают творить. Огонь. Это огонь. Он вышел — и он горит. И неравнодушный.
Я считаю, что актёр — это человек, который всё чувствует острее. Если он видит чью-то боль, ему в 10 раз внутри больнее, чем обычному человеку. Если он радуется, то он в 10 раз сильнее ощущает это счастье. Все его эмоции умножены, он без кожи.
Сопереживающий, сочувствующий.
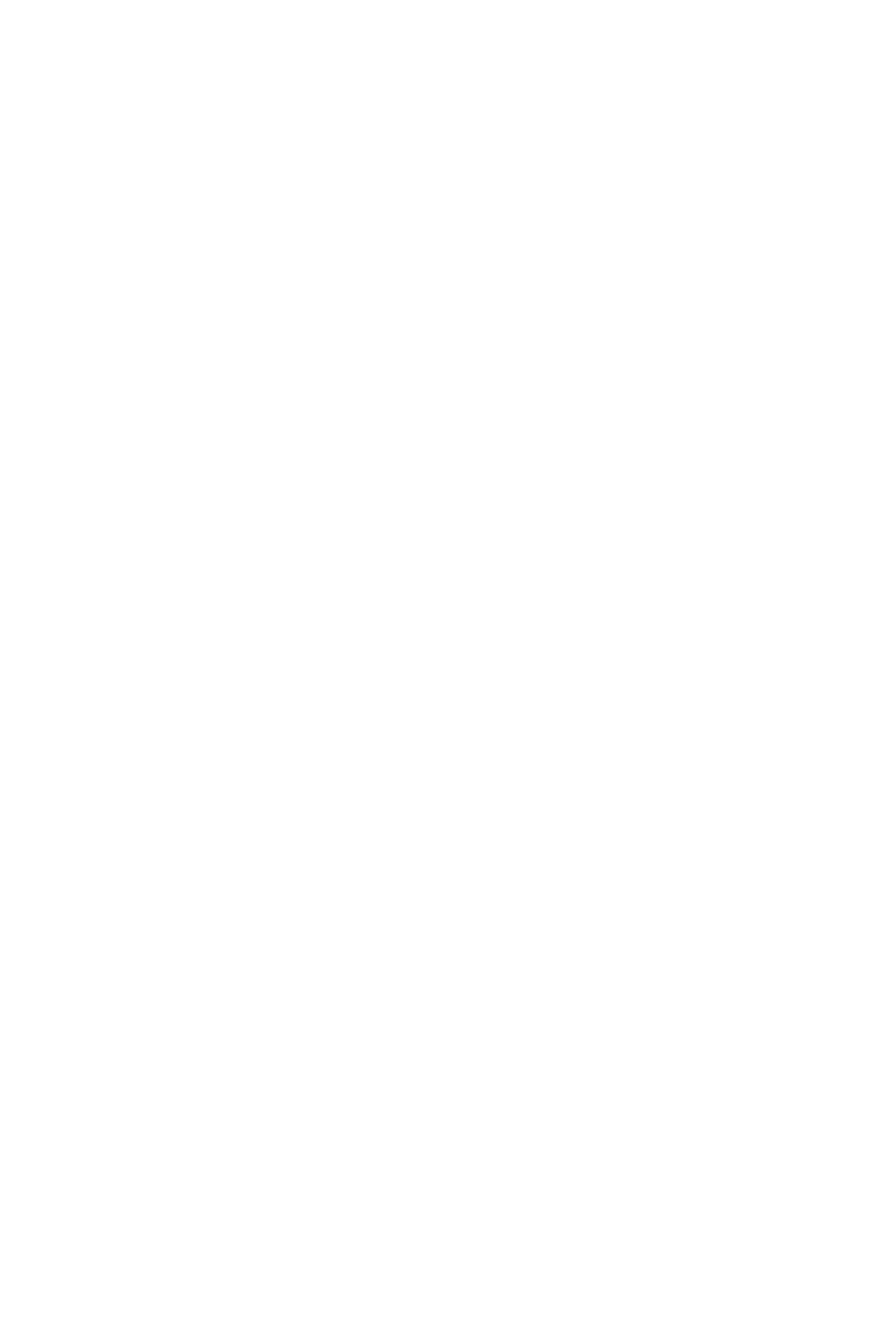
Екатерина, расскажите, что для вас является самым энергозатратным и сложным в вашей профессии.
Отвечу честно — ждать. Ждать роль — самая большая мука для артиста.
Какая бы сложная, эмоционально изматывающая ни была роль, какое бы количество текста ни было, какие бы задачи ни стояли, будь то похудеть, научиться фехтовать, выучить язык, или же бывают очень сложные роли , где ты убиваешь (например, я сейчас как раз репетирую роль, где женщина, поняв, что любовь безответна, убивает) — ничто не сравнится с пустотой, когда ты ждёшь роль.
И в театре, и в кино это самый адский ад. Когда ты не можешь реализоваться. Это самое страшное.
Говорят, что актёры всегда испытывают волнение перед выходом на сцену, как в первый раз. Так ли это в вашем случае?
Я волнуюсь. С одной стороны, есть ответственность за души зрителей: думаешь, донесёшь — не донесёшь. Я не прыгала с парашютом, но у людей, которые это делают, наверняка всегда есть адреналин и волнение перед прыжком, а потом они уже летят. Волнуешься только перед первым шагом. Так и я: волнуюсь перед первым шагом, но как только я этот шаг сделала, то на самой сцене я уже как рыба в воде. Это уже знакомая тебе среда и в ней ты плаваешь. Да, такой момент адреналина безусловно есть.
Это ощущение на сцене, как рыбы в воде, пришло с опытом?
Первый свой спектакль я играла в 10 лет, это был «Буратино». Я помню, как сидела за кулисами в Доме пионеров. Там были огромные – огромные леса. Когда я училась в театральной студии, у меня не было ни одной главной роли. За 6 лет были три микроскопических эпизода. Для меня всё равно было в кайф находиться в ансамбле. И вот я сижу в костюме куклы. Мне говорят, что скоро будет танец кукол. И я сижу, смотрю на эти леса и думаю: «А вот если я сейчас возьму и не выйду на сцену? Весь спектакль развалится. Да, у меня маленькая роль. Нет слов. Но если я не выйду, Саша запутается, Таня тоже». Я понимала груз ответственности за то, что я должна выйти и чётко станцевать. Пройти из правой кулисы в левую. Это было такое благоговение, волнение и ощущение ответственности.
Я увидела дом, где я — кирпичик, и если этот кирпичик вынуть, то дом развалится. И сейчас мне хочется нести свет в каждую свою роль. Даже маленькую. И какой бы отрицательной она ни была.
