Позволь себе танцевать
Относительно недавно в интернете я наткнулась на
маленькие рассказики в пару предложений, каждый из которых
начинается фразой «жила-была девочка». Простые, жизненные и
проницательные рассказы, подписанные Аглаей Датешидзе.
Тут же я нашла официальный сайт автора и буквально провалилась в
него: как много там было про жизнь, танец и про людей.
Общалась и фотографировала Саша Кушнерова
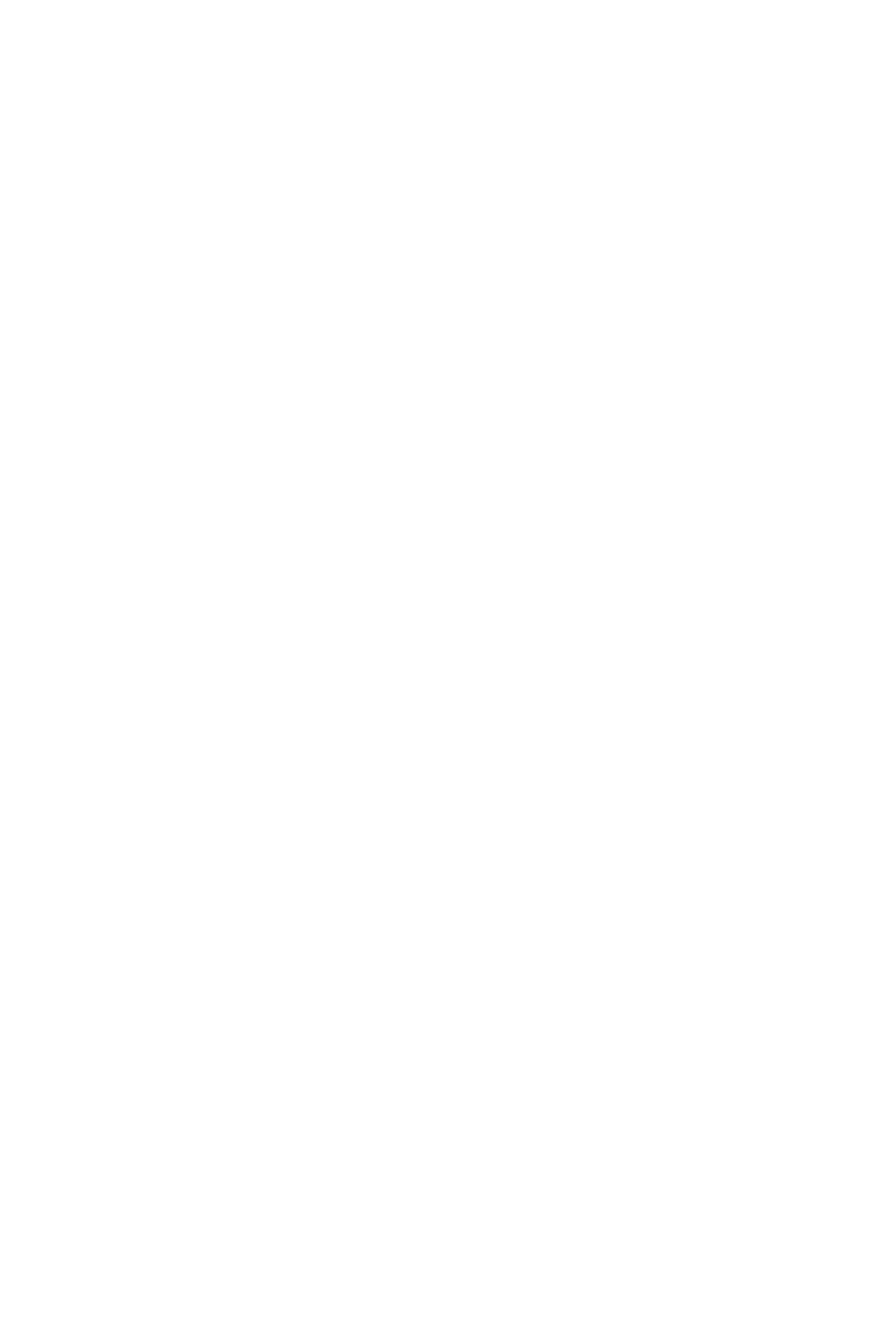
Аглая, когда или как вы поняли, что вам хочется заниматься психотерапией?
Мне всегда было интересно наблюдать за людьми, слушать их. Замечать и анализировать
нестыковки в том, что человек делает и говорит, в том, что он говорит и как выглядит, в том, как
он выглядит и как живёт. А психотерапия как раз занимается такими нестыковками. Знаете, это
как будто вы, сидя в гостях, замечаете торчащий из комода лоскуток яркой ткани и, потянув за
него, случайно обнаруживаете редкого узора шёлковое кимоно — оказывается, хозяин очень
любит в нём танцевать, но никто об этом не знает, потому что сам человек этого сильно
стесняется. Для меня психотерапия — это когда ты тянешь за маленький лоскуточек, тянешь,
тянешь и что-то обнаруживаешь. Это во-первых.
Во-вторых, так устроена моя семья и мой род, в котором было очень много интересных и разных людей, а интересные люди не всегда психически здоровы. Когда я впервые увидела сумасшедшего человека — я тогда училась в первом меде (Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова) — многое мне стало очень понятным. Хотя большинство студентов были просто «в ступоре».
Я почувствовала, что развиваться в этой стезе мне будет просто. Как вообще понять, что ты на
своём пути? — на нём никто не стоит. И на моём пути никого не стояло.
нестыковки в том, что человек делает и говорит, в том, что он говорит и как выглядит, в том, как
он выглядит и как живёт. А психотерапия как раз занимается такими нестыковками. Знаете, это
как будто вы, сидя в гостях, замечаете торчащий из комода лоскуток яркой ткани и, потянув за
него, случайно обнаруживаете редкого узора шёлковое кимоно — оказывается, хозяин очень
любит в нём танцевать, но никто об этом не знает, потому что сам человек этого сильно
стесняется. Для меня психотерапия — это когда ты тянешь за маленький лоскуточек, тянешь,
тянешь и что-то обнаруживаешь. Это во-первых.
Во-вторых, так устроена моя семья и мой род, в котором было очень много интересных и разных людей, а интересные люди не всегда психически здоровы. Когда я впервые увидела сумасшедшего человека — я тогда училась в первом меде (Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова) — многое мне стало очень понятным. Хотя большинство студентов были просто «в ступоре».
Я почувствовала, что развиваться в этой стезе мне будет просто. Как вообще понять, что ты на
своём пути? — на нём никто не стоит. И на моём пути никого не стояло.
А с чего же тогда началась танцевальная терапия?
У вас на сайте в описании к семинару «Позволь себе танцевать» сказано, что вы тяготели к танцу всегда.
У вас на сайте в описании к семинару «Позволь себе танцевать» сказано, что вы тяготели к танцу всегда.
Да, мне хотелось стать балериной. Лет с трёх. А в семь у меня появилась собственная комната, и по утрам, пока спали родители, я включала пластинку и танцевала под неё. Например, можно было включить Эрика Клэптона (Eric Clapton), Эллу Фитджеральд (Ella Fitzgerald), «The Beatles» — у родителей были все пластинки. Я также обнаружила, что под музыку можно ещё разминаться и придумывать разные танцевальные композиции. Это помогало пережить сложные моменты.
Ваш семинар «Позволь себе танцевать» посвящён работе с внутренним критиком. Он для людей, которым сложно позволить себе танец, для тех, кто хочет поменять что-то в своей жизни, но не решается. Скажите, а у вас был внутренний критик?
Наверное, нет. Мне было понятно, в фантазии возможно все. Я фантазировала о том, как когда-
нибудь я буду либо танцевать на сцене, либо режиссировать спектакль, либо солировать где- то. Танец пробуждал много моих внутренних ресурсов. Балериной я не стала, но танец стал значительной частью моей жизни.
нибудь я буду либо танцевать на сцене, либо режиссировать спектакль, либо солировать где- то. Танец пробуждал много моих внутренних ресурсов. Балериной я не стала, но танец стал значительной частью моей жизни.
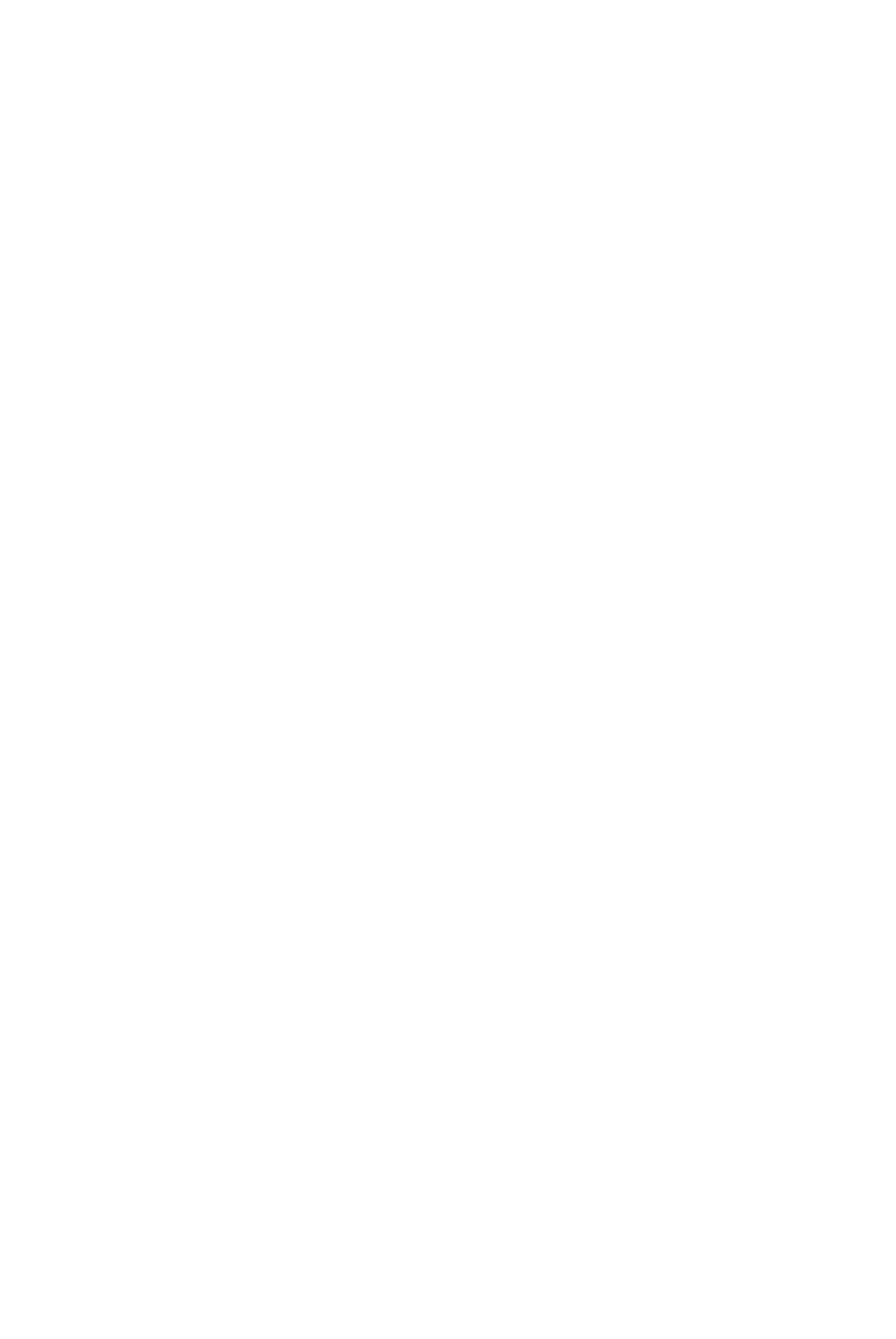
А когда вы связали это с терапией?
Это, конечно же, не я связала. Танцевальной терапии уже больше ста лет. Есть мастодонты
танцевальной терапии и люди, с которых всё начиналось. Ещё в начале двадцатого века. А мой
опыт начался с просьбы вести фитнес для детей.
Я всегда увлекалась спортом. Так вот, я начала его вести и поняла — фитнес детям не нужен, а
вот танцы — хорошо. И я начала итненсивно обучаться в этом направлении. У меня в тот момент не было никаких компетенций. Был авантюрный характер, чтобы вести классы, не имея их. Потом мне стало понятно, что танцы имеют какой-то терапевтический эффект на детей и на всех, кто танцует. У людей много возникает вопросов, переживаний, снимаются какие-то блоки. Дальше я стала врачом психиатром, параллельно преподавая танцы.
Про танцевальную терапию я узнала от Натальи Оганесян (Оганесян Наталия Юрьевна —
Председатель Санкт-Петербургской ассоциации танцевально-двигательной терапии). Начала в
этом плане развиваться, пробовать. Постепенно я оказалась в тренинговом деле. Многое заводило и озадачивало одновременно. Я сама оказывалась на разных тренингах и обучающих программах: на гештальт-терапии, программе интерактивной танцевальной терапии Александра Гиршона, программе Линды Хартли по соматике, программе по бодинамике Лизбет Марчер и так далее. Я была и ведущей, и участвующей.
танцевальной терапии и люди, с которых всё начиналось. Ещё в начале двадцатого века. А мой
опыт начался с просьбы вести фитнес для детей.
Я всегда увлекалась спортом. Так вот, я начала его вести и поняла — фитнес детям не нужен, а
вот танцы — хорошо. И я начала итненсивно обучаться в этом направлении. У меня в тот момент не было никаких компетенций. Был авантюрный характер, чтобы вести классы, не имея их. Потом мне стало понятно, что танцы имеют какой-то терапевтический эффект на детей и на всех, кто танцует. У людей много возникает вопросов, переживаний, снимаются какие-то блоки. Дальше я стала врачом психиатром, параллельно преподавая танцы.
Про танцевальную терапию я узнала от Натальи Оганесян (Оганесян Наталия Юрьевна —
Председатель Санкт-Петербургской ассоциации танцевально-двигательной терапии). Начала в
этом плане развиваться, пробовать. Постепенно я оказалась в тренинговом деле. Многое заводило и озадачивало одновременно. Я сама оказывалась на разных тренингах и обучающих программах: на гештальт-терапии, программе интерактивной танцевальной терапии Александра Гиршона, программе Линды Хартли по соматике, программе по бодинамике Лизбет Марчер и так далее. Я была и ведущей, и участвующей.
Аглая, скажите, а с какими целями люди приходят на семинар?
В группе у людей абсолютно разный спектр целей, каждый отвечает на свой вопрос. Их можно классифицировать, но это не делает ситуацию стандартной. И если терапевт с этими вопросами сталкивался, то он может поделиться опытом. Но чаще всего он наблюдает и старается придумать творческий выход из ситуации.
А есть ли какой-то стиль у танцевальной терапии?
Танцевальная терапия — это использование танца в терапевтических целях. Любого танца. И
здесь стоит вопрос не о стиле, а о человеческих проявлениях. И если вы чувствуете себя в каком- то стиле комфортно, то почему бы и нет. Если это спонтанный танец, то почему бы и да. Чаще, конечно, используется спонтанный танец. Стили, которые мне нравятся — контемпорари (contemporary dance), арт-хаус, джаз-модерн. Они очень объёмны с точки зрения движения.
здесь стоит вопрос не о стиле, а о человеческих проявлениях. И если вы чувствуете себя в каком- то стиле комфортно, то почему бы и нет. Если это спонтанный танец, то почему бы и да. Чаще, конечно, используется спонтанный танец. Стили, которые мне нравятся — контемпорари (contemporary dance), арт-хаус, джаз-модерн. Они очень объёмны с точки зрения движения.
А музыка, вы её как-то подбираете?
Есть и заготовки, и специальные функциональные правила, и интуитивные вещи. Из двух тысяч
заготовок ты можешь выбрать то, что подходит на данный момент. Когда есть силы, желание и
возможность — я подбираю музыку, кода их нет
— не подбираю.
заготовок ты можешь выбрать то, что подходит на данный момент. Когда есть силы, желание и
возможность — я подбираю музыку, кода их нет
— не подбираю.
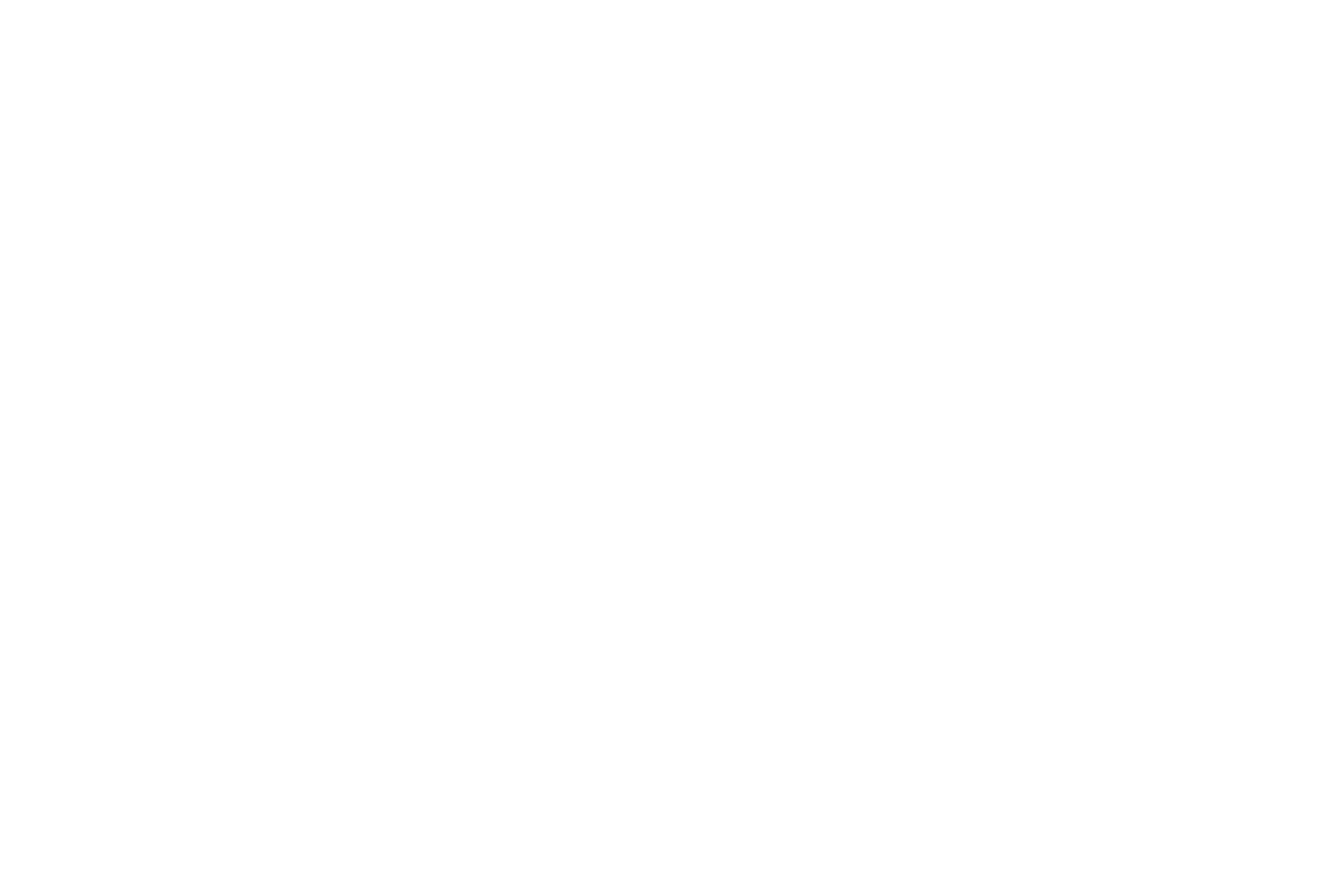
Аглая, задам широкий и в чём-то философский вопрос — что такое для вас танец? Есть ли у вас собственное определение?
Это универсальный способ проявления и творческого во мне, и божественного во мне, и
спортивного во мне, и эмоционального во мне.
Это то, что естественным образом рождается, когда мне хорошо. Танец может быть
одновременно и произведением искусства, и лекарством, и средством общения с миром, и
продуктом, и вопросом, и способом понять себя.
Основная тема для меня — это ощущение ценности, которое приобретается через танец.
Мне это очень важно. Правда, это ощущение не всегда легко достижимо.
спортивного во мне, и эмоционального во мне.
Это то, что естественным образом рождается, когда мне хорошо. Танец может быть
одновременно и произведением искусства, и лекарством, и средством общения с миром, и
продуктом, и вопросом, и способом понять себя.
Основная тема для меня — это ощущение ценности, которое приобретается через танец.
Мне это очень важно. Правда, это ощущение не всегда легко достижимо.
А как часто вы танцуете?
Наверное, часто. Прицельно — несколько раз в неделю, а дома и для себя — каждый день,
небольшими кусочками.
небольшими кусочками.
У вас на сайте представлены простые практики, которые помогают полюбить и принять себя, окружающий мир, работать с гневом и ленью. Есть какая-то практика, связанная с танцем? Как начать танцевать?
Это очень широкий вопрос. Есть простая и банальная рекомендация: танцуй, когда никто не
видит и как будто никто не видит. Всегда можно танцевать так, как нравится, хотя бы дома.
Каждый день включаешь музыку и танцуешь. Правда, я не очень люблю широкие и
универсальные рекомендации. Всё-таки важно понимать, что надо конкретному человеку.
видит и как будто никто не видит. Всегда можно танцевать так, как нравится, хотя бы дома.
Каждый день включаешь музыку и танцуешь. Правда, я не очень люблю широкие и
универсальные рекомендации. Всё-таки важно понимать, что надо конкретному человеку.
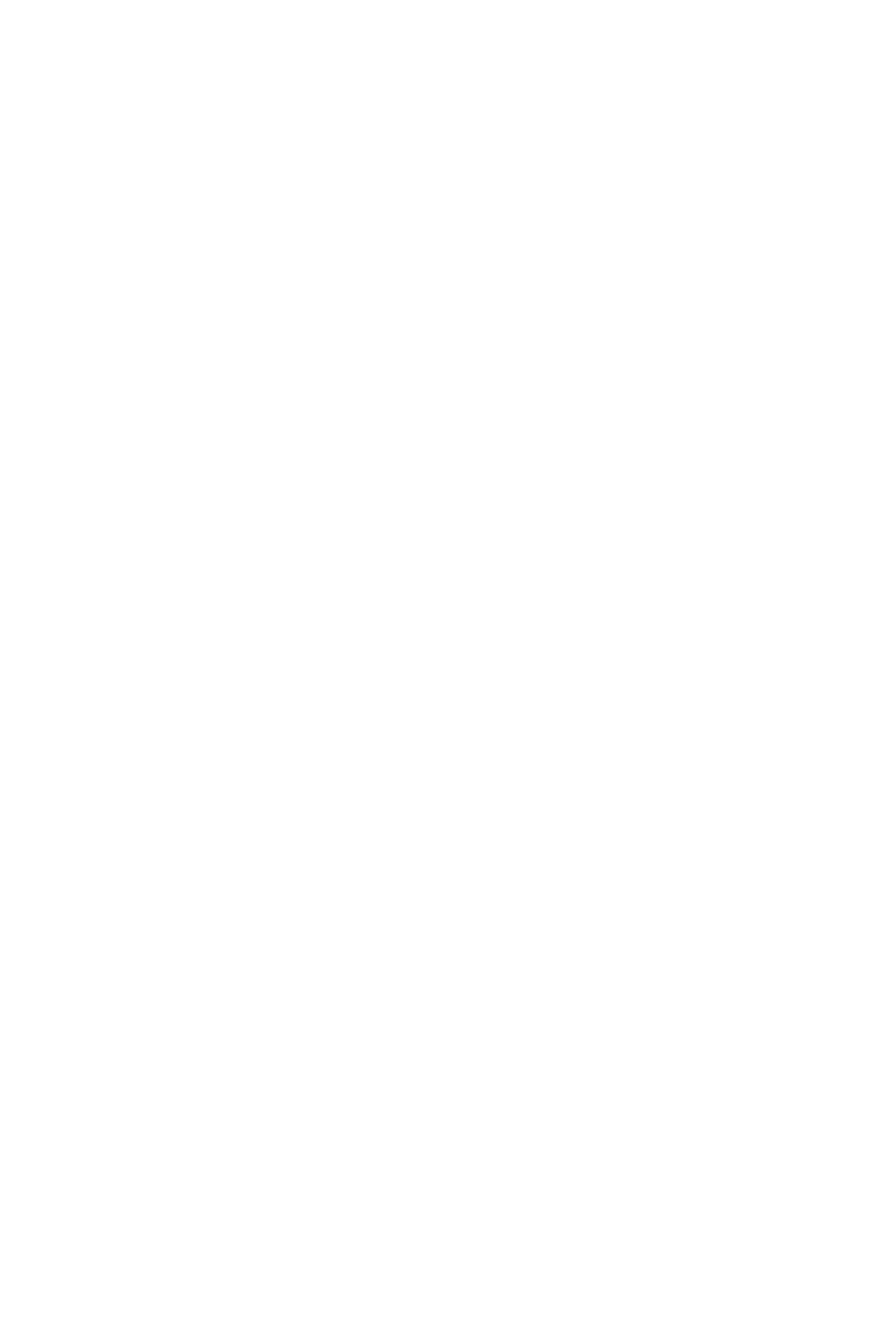
Как вы сами обучаетесь, как открываете новое и как двигаетесь вперед?
Как лично я это делаю?
Да, лично вы.
Мне что-то нравится, я интуитивно понимаю, что мне туда надо. Узнаю, выясняю, общаюсь,
смотрю, слушаю про техники — либо что-то отзывается, либо нет. Если отзывается — двигаюсь дальше, ещё больше читаю, смотрю, пробую и проверяю.
смотрю, слушаю про техники — либо что-то отзывается, либо нет. Если отзывается — двигаюсь дальше, ещё больше читаю, смотрю, пробую и проверяю.
Последний вопрос, не по теме. В чём для вас красота мира и красота людей, красота движения?
Как вы это определяете?
Как вы это определяете?
Хороший вопрос. Про красоту мира — я точно понимаю, что он очень многообразный, и тем он
красив. В нём есть всё, от и до. Если я замедляюсь, я успеваю замечать, что именно красиво. Успеваю замечать внутри себя отражение того, что снаружи. Но не всегда получается — надо очень качественно замедлиться и наблюдать.
Про красоту людей — иногда они мне кажутся красивыми, иногда «вау, ничего себе», иногда просто нормальными. Разными они мне кажутся. И они, в зависимости от ситуации, вызывают
разные чувства.
А про красоту движений — меня трогает плавность линий, лёгкость, меня трогает слитность, возможность эстетики и рождения метафор. Меня трогает состояние, когда необходимо и достаточно, ровно столько, сколько нужно, не больше и не меньше. Меня трогает, когда лёгким вопросом или движением можно запустить большой процесс.
красив. В нём есть всё, от и до. Если я замедляюсь, я успеваю замечать, что именно красиво. Успеваю замечать внутри себя отражение того, что снаружи. Но не всегда получается — надо очень качественно замедлиться и наблюдать.
Про красоту людей — иногда они мне кажутся красивыми, иногда «вау, ничего себе», иногда просто нормальными. Разными они мне кажутся. И они, в зависимости от ситуации, вызывают
разные чувства.
А про красоту движений — меня трогает плавность линий, лёгкость, меня трогает слитность, возможность эстетики и рождения метафор. Меня трогает состояние, когда необходимо и достаточно, ровно столько, сколько нужно, не больше и не меньше. Меня трогает, когда лёгким вопросом или движением можно запустить большой процесс.
