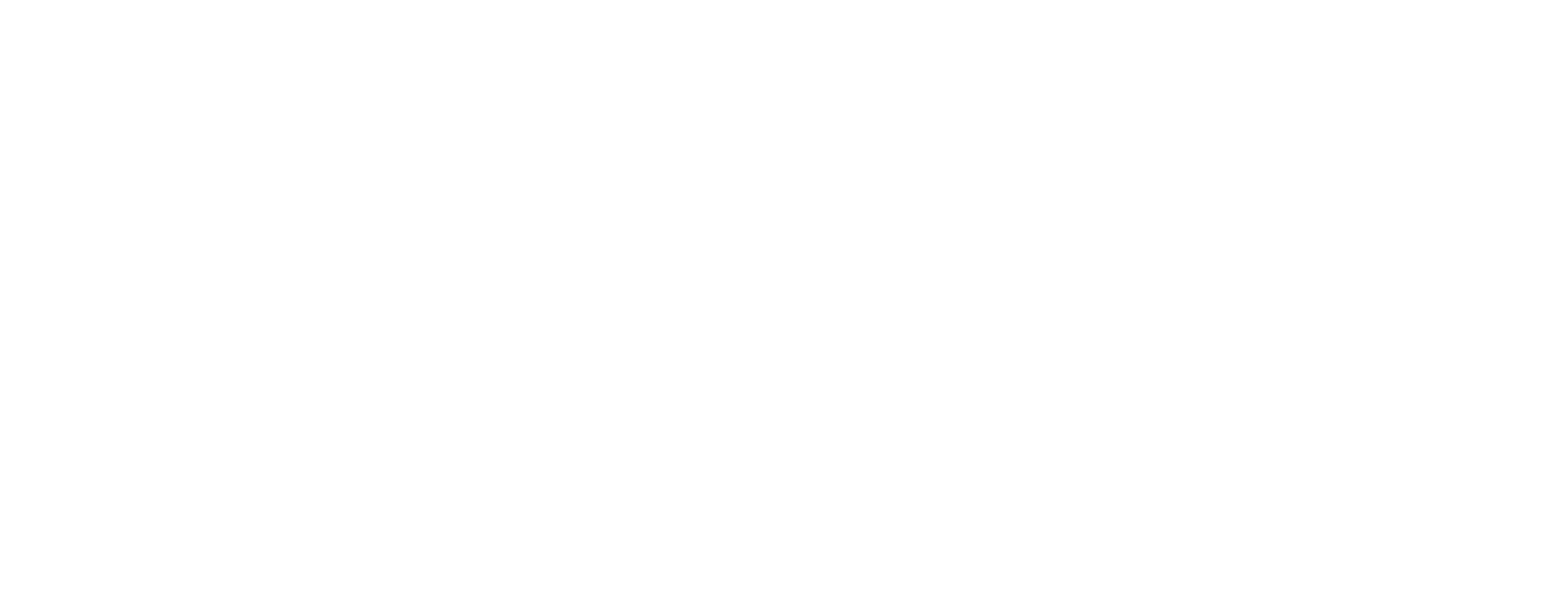Великие нарушители
Что известно об авангарде? Всё и ничего. Чёрный квадрат. Супрематизм. Кандинский и Малевич. Какие-то экспрессивные формы и очертания. А что, если копнуть глубже и попробовать собрать пазлы воедино, в одну картину? Авангардное искусство — оно такое разношёрстное. Несомненно, художники-авангардисты талантливы, в чём-то гениальны (тут у каждого будет своё мнение), а главное, смелы и находчивы. Даже сейчас, по прошествии более чем ста лет со времени его зарождения, он всё ещё рождает споры и полемику. Каково же было им тогда, когда они начинали творить и продвигать свои ценности и манифесты в массы. Бесспорно, все прочие художественные направления и течения, при всём их мастерстве и утончённости, не могут похвастаться такой энергетикой и радикализмом. Как так случилось, что несколько десятков смелых ребят прочно вошли и укоренились в нашем сознании, образовав стиль в искусстве, который и по сей день настолько же впечатляет и завораживает, насколько и поражает своей откровенностью. Безумная мозаика. Постараемся разобраться со всеми фрагментами этого пазла и собрать их воедино, в красивое и интересное панно. Поиграем! Для удобства пазлы пронумерованы, так что мы точно будем понимать, что к чему, и как они сходятся.
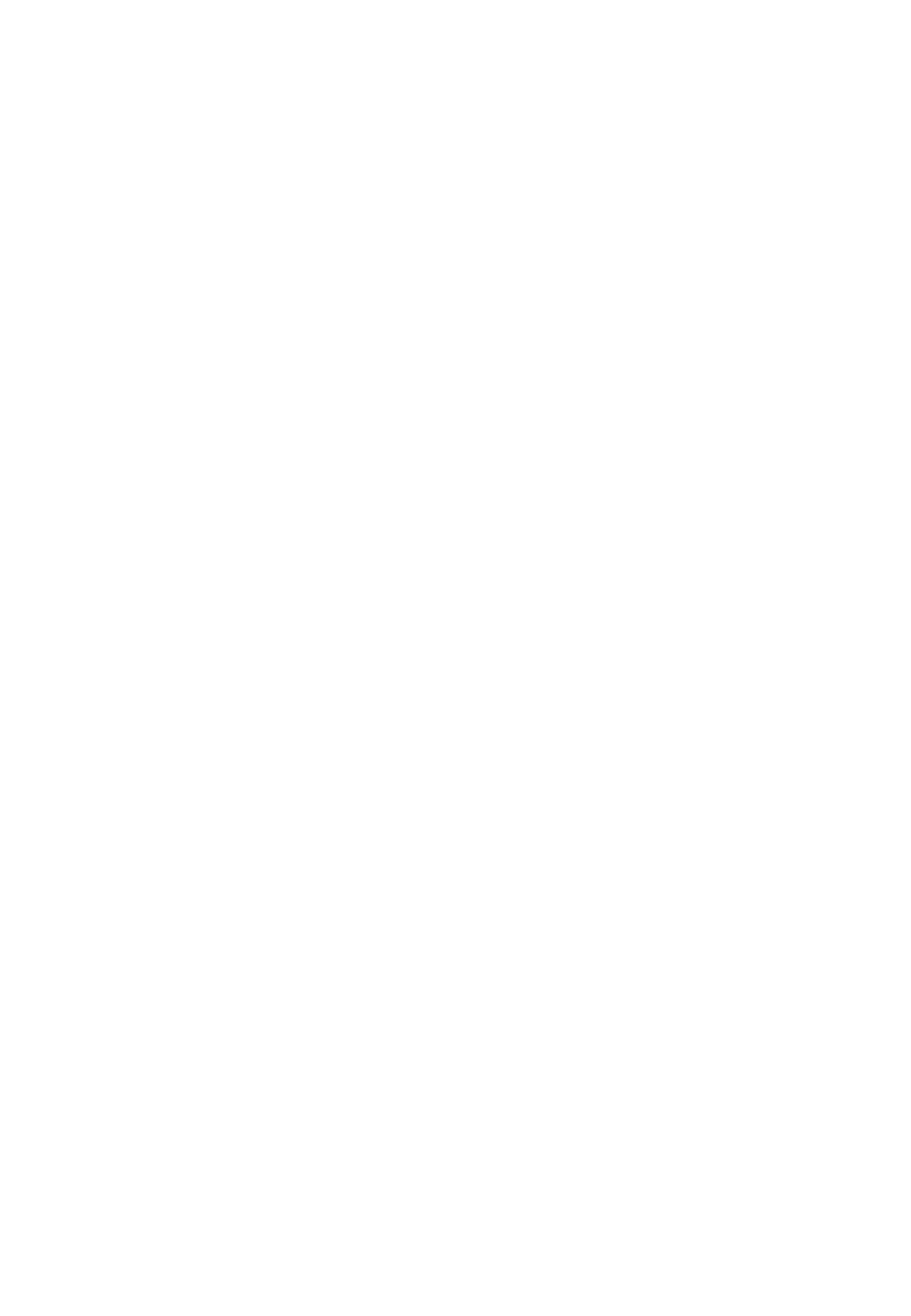
Конечно упомянем Борисова-Мусатова Николая Врубеля, поскольку эти два художника не при-надлежали к объединению «Голубой розы», однако прославились как великие символисты.
Теперь немного о «Голубой розе». Это объединение художников-символистов, таких, как скульптор Александр Матвеев и живописцы Павел Кузнецов и Петр Уткин. Вдохновляясь работами Виктора Борисова-Мусатова и Михаила Врубеля, они создали свое художественное объединение для достижения большей выразительности символистской образности (образа-символа). Их очаровала эстетика скрытых смыслов, философии и духовности. Скрытые смыслы они искали всюду, даже в механике и футуризме, которые, как источники вдохновения, объеди-няли их с авангардистами. Именно символистская философия, духовность, «эстетическая свобо-да» и послужили толчком и вдохновением к развитию передовых идей и установок авангардистов.
Импрессионисты и экспрессионисты Гоген, Сезанн, Пикассо, Матисс в своих произведениях стремимся выразить впечатление, естество, эмоцию от увиденного, в первую очередь — цветом и светом. Будущие авангардисты были в восторге от манеры их художественного повествования.
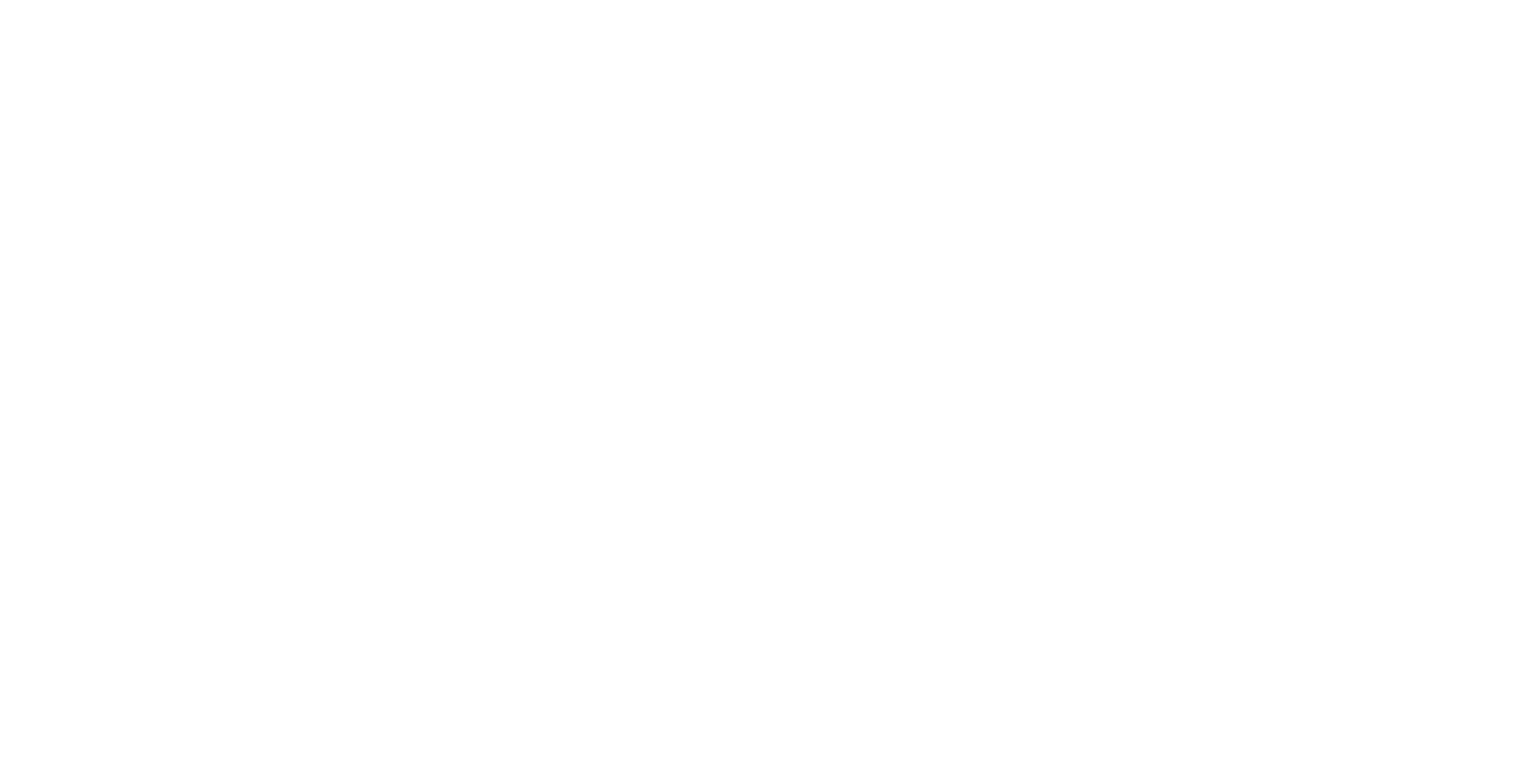
А вот Александр Бенуа, с чьей легкой руки, а точнее, «легкого слова» появился сам термин авангард. Случилось это в 1910 году на выставке Союза художников. «Мы, из "Мира искусства" [творческое объединение художников-символистов, руководителем которого он сам являлся], в центре. А несколько молодых москвичей [он имел ввиду художников «Бубнового валета», о котором еще пойдет речь] — авангард. Они зашли слишком далеко по пути нарушения общепринятых норм искусства» — так он писал в рецензии к выставке. Мог ли Бенуа предположить это или нет, но название вскоре вошло в обиход, и прочно держится по сей день. А его саркастическое замечание о Ларионове, который мог бы стать «настоящим художником», а он вместо этого вся-кий примитив пишет — оказалось пророческим. Спустя несколько лет Ларионов был провозглашен основателем течения Неопримитивизма (первой волны).
А еще благодаря Бенуа в обиход вошло и выражение «русские сезаннисты» по отношению к «бубнововалетовцам».
Условно говоря, активное развитие авангарда в России началось в 1910 году. Собственно, после той самой «разгромной» для молодых художников выставки. Не пришлась по вкусу она также и посетителям. Газета «Петербургский листок» писала: «О «произведениях» «валетов» нам не приходится говорить, так как мы можем рассматривать хорошие или дурные художественные произведения, а все, что выставлено «бубновыми валетами», нельзя даже считать художественными произведениями — это просто испорченные куски полотна, замазанные красочной грязью». Но художники не отчаялись, а наоборот, решили сделать «свою дикость, необузданность» своей изюминкой. Решили организовать свою первую индивидуальную выставку. Название было подобрано соответсвующее. «Бубновый валет». Эту карту принято трактовать как молодость и буйство крови. С другой стороны, вдохновление пришло из блатной жизни: в те времена на робах арестантов был нарисован ромб, напоминавший бубновый туз. Ядром объединения стали Петр Кончаловский, Михаил Ларионов, его супруга Наталья Гончарова, Аристарх Лентулов и Илья Машков.
Петр Кончаловский с ранних лет посещал выставки значимых отечественных и европейских художников, что дало ему значительный оплот для развития собственного стиля. Однако на первых порах художник испытывал неуверенность в себе и нередко пускал свои работы «под нож». Вдохновившись импрессионистами, затем Ван Гогом, Сезанном, и народной русской традицией, большую часть своей жизни он искал что-то между последними двумя. Стоит сказать, что художник нечасто фиксировал свои художественные взгляды в литературе. Но то, что он высказывал, было удивительно точно и глубоко: «в поисках стиля следует работать «с тем же холодным со-знанием, с каким хирург совершает операцию». Всё то, что расслабляет волю, «затмевает художническое сознание», — «поэтическое порабощение природой», «лихорадка настроений», «живописная прелесть сюжета» — препятствует созданию подлинного произведения.
Наталья Гончарова. Познакомилась с Михаилом Ларионовым еще в московском училище живо-писи, ваяния и зодчества, который заявил ей: «У вас глаза на цвет, а вы заняты формой. Раскройте глаза на собственные глаза!». Под его влиянием художница начала созда-вать импрессионистские полотна, хотя обучалась на отделении скульптуры. Позже она увлеклась фовизмом, писала в примитивной манере, используя в своих работах крестьянские мотивы и иконописные приемы. Не окончив образование и приняв решение отчислиться в 1909 году, уже на следующий год организовала персональную выставку. На картинах были изображены обна-женные женщины, напоминающие скифских каменных баб. Критика отнеслась к та-кой «порнографии» неодобрительно. Но, поскольку сама выставка была неофициальной, худож-нице удалось избежать судебных хлопот. В 1910 вошла в круг «Бубнововалетовцев». Но ввиду расхождения интересов также скоро и покинула его. Как и ее супруг Ларионов, Гончарова стре-милась соединить приемы европейской школы с традициями русского народного искус-ства, иконописи, лубка, крестьянской примитивной живописи и восточной культуры. Ближе к революции Гончарова с Ларионовым вплотную занялись театральной живописью, не без влияния Сергея Дягилева. Впрочем, вскоре он пригласил их работать над «Русскими сезонами» в Париж, где они и остались жить.
Илья Машков. Критики называли Илью Машкова «русским Сезанном» за яркие краски и четкие контуры его полотен. Картины художника хвалил Анри Матисс и покупал коллекционер Иван Морозов. Кстати, Машков также, как и многие его коллеги-художники был подвержен критике во время обучения, а вскоре и отчислен. «За новаторство в живописи», как он сам вспоминает. Будучи основателем «Валета», более всего прославился своим «Автопортретом и портретом Петра Кончаловского». Полотно, на котором представлены двое мужчин, явно «возомнивших себя Атлантами», выполненных в грубой манере, да еще и в одном нижнем белье, разумеется, не прошла мимо нападок критиков. Однако поэт Максимилиан Волошин оценил ее: «в "Автопортрете…" есть несомненные живописные достоинства; эта вещь даже «академична», потому что комическая важность шаржа требует «академичности». Впоследствии Машков работал с Аристархом Лентуловым, Петром Кончаловским и Владимиром Маяковским. А после революции Машков стал одним из самых популярных советских соцреалистов.
Иван Куприн. Творчество Куприна развивалось в русле постимпрессионизма и кубизма. В 1908 Куприн впервые посетил собрание Щукина и познакомился с Ларионовым, привлёкшим его к участию в выставках «Золотое руно» и «Бубновый валет». В работах этого периода ощутимо влияние как Ван Гога, так и раннего Ларионова. Около 1912 основным ориентиром для Куприна становится Сезанн. В «Бубновом валете» Куприн творил до 1915 года. А в 1917 он создаёт свой индивидуальный стиль, в котором сочетает образ с экспрессией (кубизация формы, ритм, цвето-вые контрасты.) Куприн часто изображает искусственные цветы и муляжи фруктов, а в 1921 об-ращается к технике коллажа. Художник сталкивает контрастные формы – угловатые, ломкие – и тающие, как будто растворяющиеся в пространстве. Куприн проявил себя отчасти и как иссле-дователь: интересовался технологией живописи, изготовлял краски для работы. Был музыкантом-любителем; самостоятельно собрал фисгармонию, на которой играл.
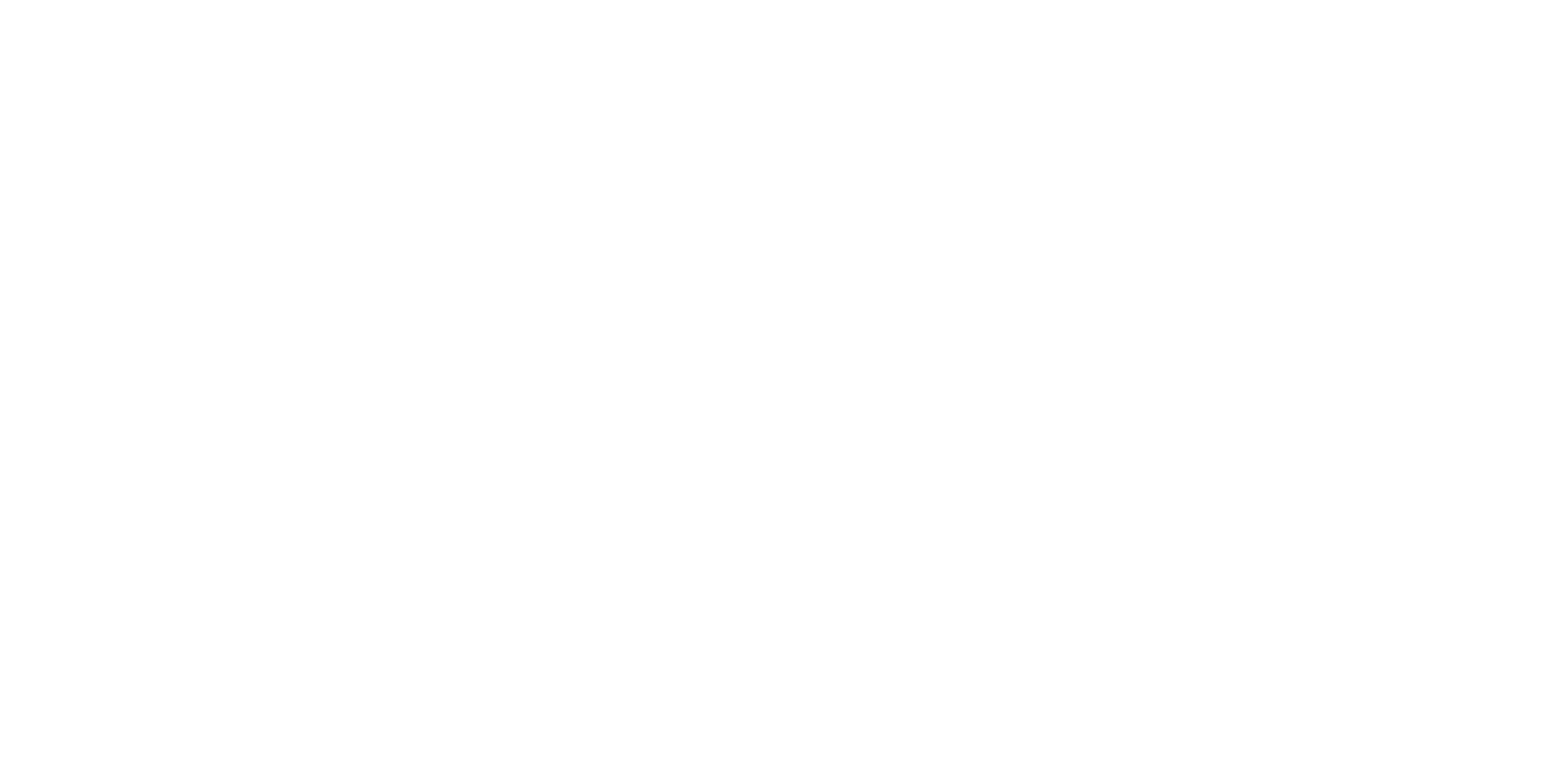
Пора разобраться со второй волной авангарда. Заявив о себе в период 1909-1913 годов, уже известные Ларионов, Гончарова, Машков и Кончаловский стали активно развивать свои собственные направления.
А на горизонте появился Казимир Малевич. В 1915 году он принял участие в выставке футуристов «0,10». О ней он писал так: «Мы делаем последнюю футуристическую вы-ставку, и выходим за пространство нуля». Выставка «0,10» предъявила рождение и начало теоретического оформления беспредметного искусства. Эра подражательства кончилась, пришло время беспредметности. Стали говорить, что «с появлением рельефов Татлина и “Чёрного квадрата” Малевича меняется точка отсчёта. Соревнование с парижской школой – важнейший двигатель в развитии нового русского искусства – теряет смысл». Лицо и качество выставки определялись московскими художниками, прежде всего Малевичем и Татлиным. Москва становится художественным центром, откуда генерируются новые идеи. И тут основными «источниками энергии» становятся супрематист–Малевич и конструктивист–Татлин. О последнем чуть позже, а сейчас пора разглядеть Малевича.
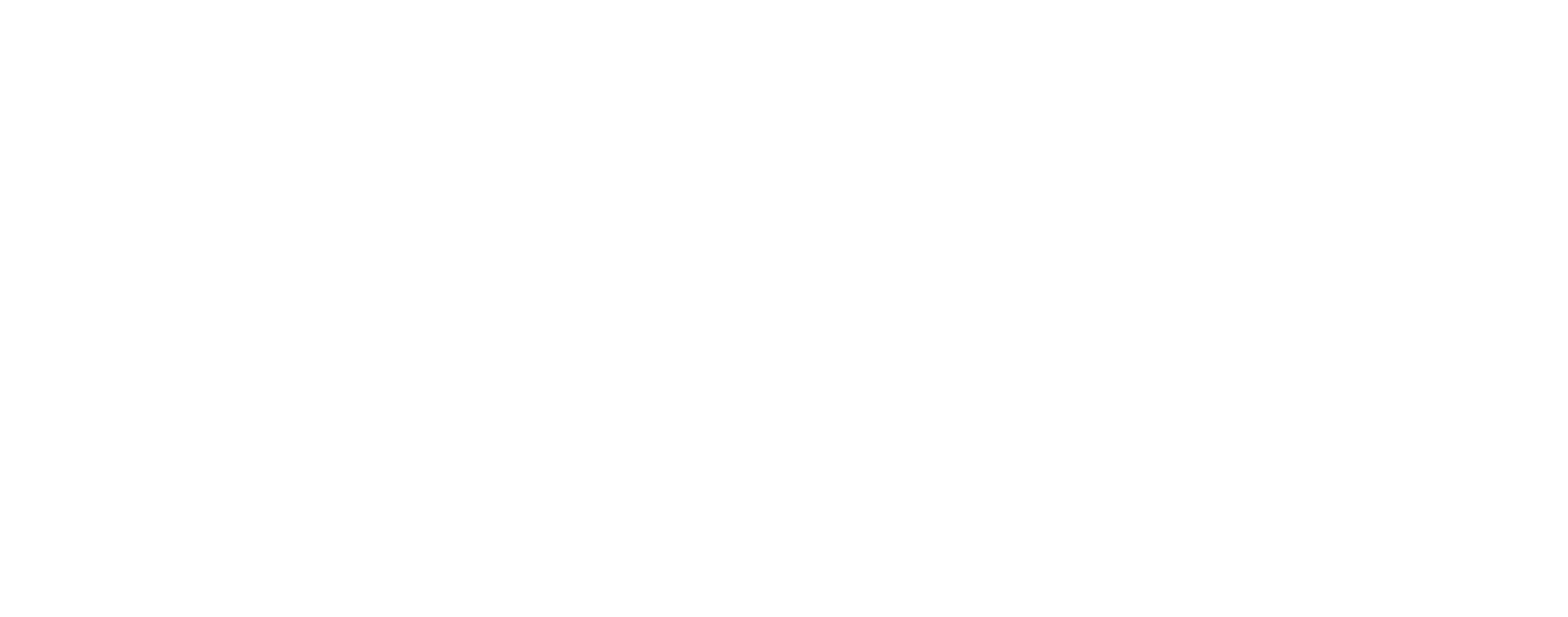
Василий Кандинский выбрал карьеру живописца достаточно поздно — в тридцать лет. Однажды, в 1896 году, будучи по образованию юристом, Кандинский посетил выставку импрессионистов в Москве. И «все бы ничего», если бы он не остановился возле «Стога сена» Клода Моне. «Смутно чувствовалось мне, что в этой кар-тине нет предмета. С удивлением и смущением замечал я, однако, что картина эта волнует и покоряет, неизгладимо врезывается в память и вдруг неожиданно так и встанет перед глазами до мельчайших подробностей». Примерно тогда же он услышал оперу Рихарда Вагнера «Лоэнгрин», которую назвал «осуществлением моей сказочной Москвы». Под двумя этими сильнейшими впечатлениями Кандинский решил оставить работу и стать профессиональным художником. Он учился в Санкт-Петербурге и Мюнхене, много жил в Европе, в частности, в Баварии. В 1903 году художник написал картину «Синий всадник» — ее считают первой абстрактной картиной Кандинского. В 1911 году Василий Кандинский и его друг экспрессионист Франц Марк организовали творческое объединение «Синий всадник». В том же году прошла первая персональная выставка Василия Кандинского. Пожалуй, более всего в жизни его занимал вопрос, «как создать такой язык, который поймут представители самых разных культур». Вскоре художник опубликовал свою книгу «О духовном в искусстве» — своеобразную теорию абстракционизма. В ней он рассуждал об ассоциациях, которые вызывают у зрителя каждый цвет, линия и геометрическая фигура. После революции Кандинский был почетным профессором Московского университета, а затем переехал в Германию, где долгое время преподавал в школе Баухауза. Политическая обстановка была нестабильна, что вынуждало его позже жить и во Франции, и в США. Однако Василий Кандинский по праву является одним из самых известных именитых не только в России, но и по всему миру. И, кстати, одним из самых дорогих русских художников.
Вот Михаил Матюшин прославился в первую очередь в Петербургских кругах, где его именем назван музей – Музей русского авангарда Матюшина. Кстати, по образованию он был музыкант, а в рисовальную школу ему посоветовал пойти живописец Иосиф Крачковский. Во время обучения Матюшин посещал Париж, где также вдохновлялся работами импрессионистов. В автобиографии Матюшин делит свой путь художника на несколько перио-дов: «1905– 1914 – искания цвета и света в этюдах с натуры, преимущественно в пейзажах. 1911–1913 – лучшие этюды в пейзаже и портрете, написанные в импрессионизме. С 1914 – больше не пишу импрессионистических вещей. Я стал работать в кубизме». На Матюшина большое впе-чатление произвели и труды математика Успенского «Четвертое измерение», которое сам худож-ник трактовал как «расширение границ человеческого сознания, «настройка» внутреннего взора, способного увидеть незримые связи, которые невозможно углядеть взором обыденным». С этой точки зрения в своем творчестве его интересовала проблема стыка неба и земли – расширенным сознанием охватить единство мира. Интересно, что Матюшин был вообще весьма разносторон-ним, и не заострялся только на изобразительном искусстве. Он выступал как критик, теоретик, много лет отдал написанию музыкальных произведений, был близок с поэтами–футуристами. Павел Филонов. Известен он нам прежде всего, благодаря своими сложными словно переливаю-щимися мозаикой на свету полотнами, похожими на панно. Сам он называл себя не художником, а исследователем. Он создал новое направление «аналитическое искусство», рисовал «атомами» и считал, что картина развивается, как живой организм. Учился Филонов на маляра, в живописно-малярных мастер- ских у Александра Гуэ. Как он вспоминает, в мастерских «работа велась всеми матери- алами и способами, стоя, сидя, лежа, при постоянном риске сорваться с лесов, при еже-дневных обедах в трактирах и «живопырках», под орган и граммофон.» Тем не менее он вспоми-нает этот свой опыт как «самую лучшую школу». По вечерам художник параллельно посещал рисовальные классы. Сразу по окончании училища Филонова как лучшего студента уже отко-мандировали в Воронеж для росписи фрески храма. Поступление в академию художеств Филоно-ву далось непросто: трижды пытался, но каждый раз не хватало анатомических знаний. Однако в 1903 году поступил в частную мастерскую живописца Льва Дмитриева-Кавказского. Академик был заядлым путешественником. Филонов, вдохновившись рассказами мастера, вскоре сам от-правился в путешествие из Казани в Рыбинск, а оттуда в Иерусалим. Средств не хватало, поэтому он брался по пути за любую работу, от оформления этикетки до портрета случайного попутчика. Собственно, эта поездка вдохновила его и на создания «Поклонения волхвов», одного из первых его крупных полотен. А в, по возвращении в Петербург, он таки поступил в Академию, правда, вольнослушателем. Учился прилежно. Правда, на втором курсе отошел от академизма, начав эксперименты с цветами. В 1910 его работы привлекли основателя «Союза молодежи», и в том же году его работы уже висели на одной стене с картинами Гончаровой, Ларионова и Кончалов-ского. В 1912 художник занялся разработкой своей теории, согласно которой картину следует писать, как «зерно, которое произрастает через целый мир невидимых явлений и взаимодействий.» Тщательная детализация, расклад изображаемого вплоть до атомов стали его отличительной чертой. Филонов работал много и активно: оформлял сборники поэтов-новаторов, театральные постановки, участвовал в выставках. И после революции он был вовсе не гоним, а, наоборот, почитаем новой властью. Сам Луначарский говорил так: «Филонов — величайший мастер. Его трудно понять, но это не умаляет его величия, и в будущем он станет гордостью страны». У художника возникла своя школа — «Коллектив мастеров аналитического искусства».
Любовь Попова. Живописец, график, театральный художник, работала в области декоративно-прикладного искусства. Училась много: в школе рисования и живописи С. Ю. Жуковского в Москве, в художественной школе К. Ф. Юона и И. О. Дудина , в академии La Palette в Париже. Посещала студию «Башня» В. Е. Татлина в Москве. Участвовала в выставках «Бубновый валет» «Первой футуристической картин "Трамвай В"», «Магазин». Ранние вещи художницы решены в духе фовизма и аналитического кубизма. Позднее перешла к более динамичной, «кубофутуристической» манере и полуабстрактному синтетическому кубизму. Вообщем художница воспринимала мир как гигантский натюрморт, и передавала это на холсте с присущими ей остротой ритма, звучности цвета и экспрессивности. Именно это разнообразие красочных ритмов и отличало ее работы от более строгого Малевича, поскольку они оба работали жанре супрематизма. В 1920-х Попова занималась книжной графикой, проектировала моду и текстиль, работала для театра.
Мы подобрались к верхушке пазла: заключительной волной русского авангарда считается конструктивизм. Здесь знаковыми фигурами считаются Александр Родченко, Варвара Степанова и Владимир Татлин. Расскажем о них по порядку.