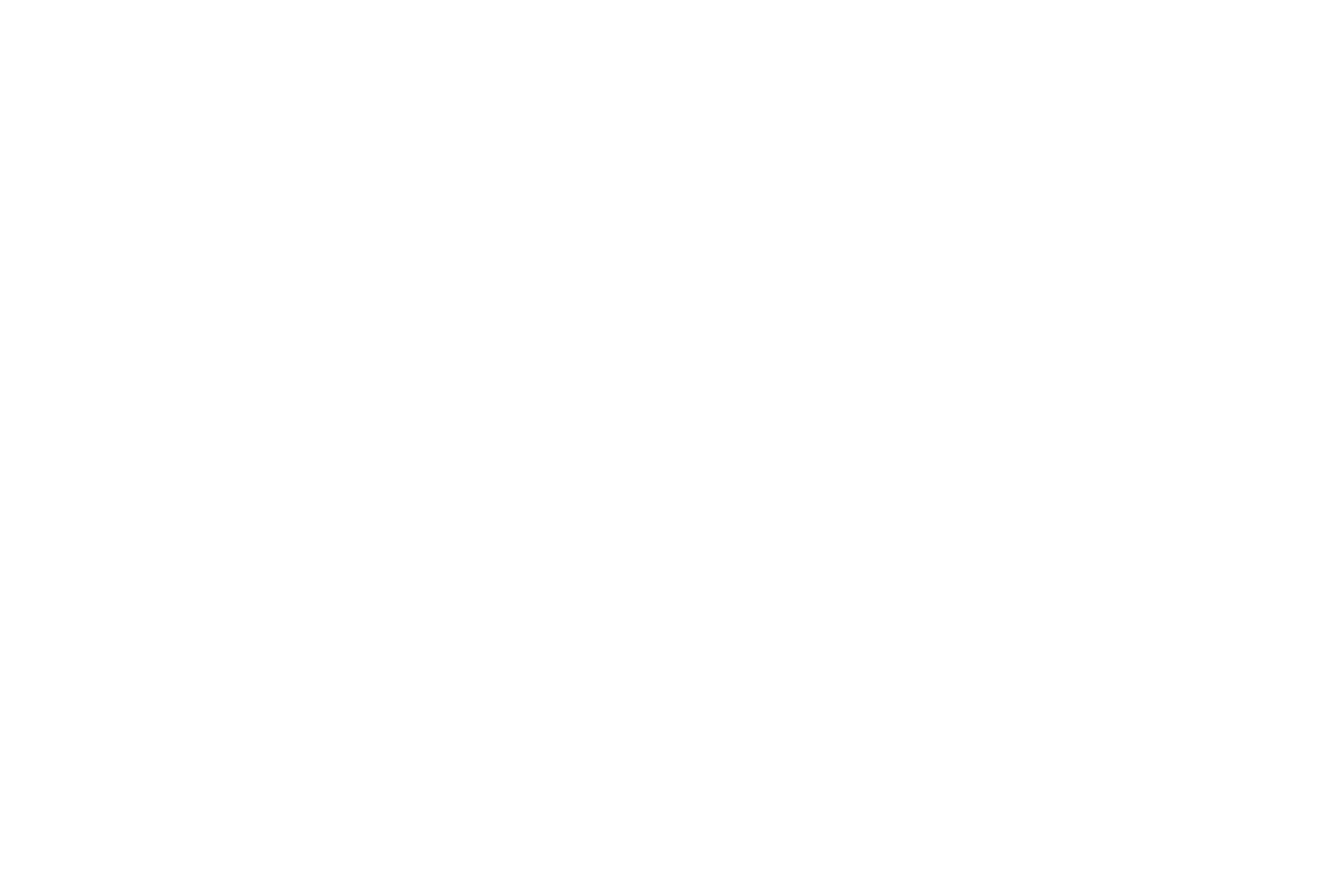«ДАЛЬШЕ — ТИШИНА»?*
*Из финального монолога Гамлета в переводе М.Л. Лозинского:
«Я умираю;
Могучий яд затмил мой дух; из Англии
Вестей мне не узнать. Но предрекаю:
Избрание падёт на Фортинбраса;
Мой голос умирающий — ему;
Так ты ему скажи и всех событий
Открой причину. Дальше — тишина.
(Умирает)»
Переосмысливала классику Эвика Сивакова
Фотографии предоставлены организаторами Фастиваля «Золотая Маска»
Фотографии предоставлены организаторами Фастиваля «Золотая Маска»
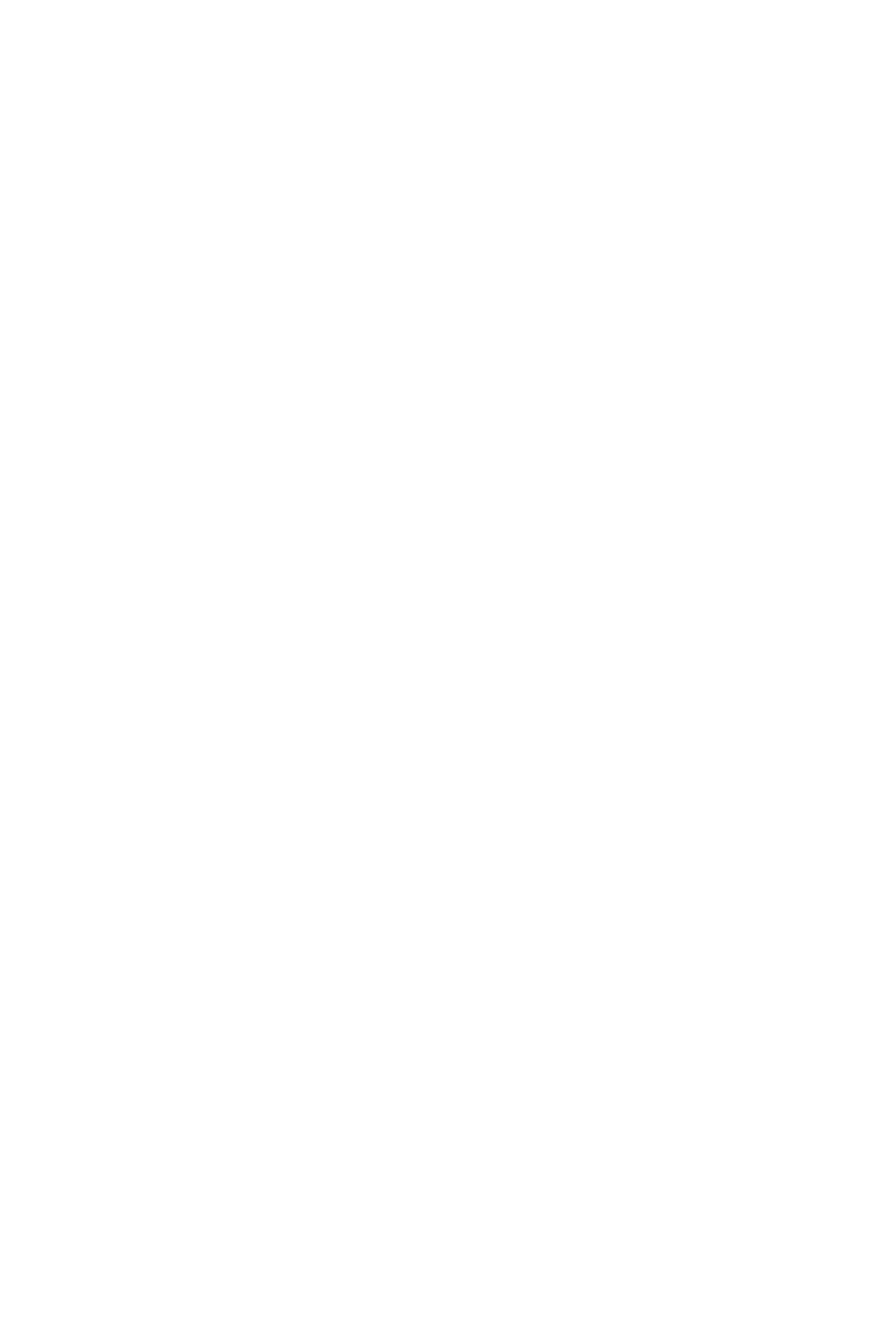
ФАСТИВАЛЬ «ЗОЛОТАЯ МАСКА»
С 1 по 8 декабря «Золотая Маска» в Санкт-Петербурге предоставила жителям культурной столицы возможность посмотреть несколько звонких московских премьер прошлого сезона. Среди лауреатов самой известной театральной премии России оказался Юрий Бутусов, чьё творчество долгое время было связано с Петербургом: в 2011–2018 годах он был сначала главным режиссёром, а затем художественным руководителем Театр им. Ленсовета. Что показали и при чём здесь Гамлет — читайте в статье театроведа Эвики Сиваковой.
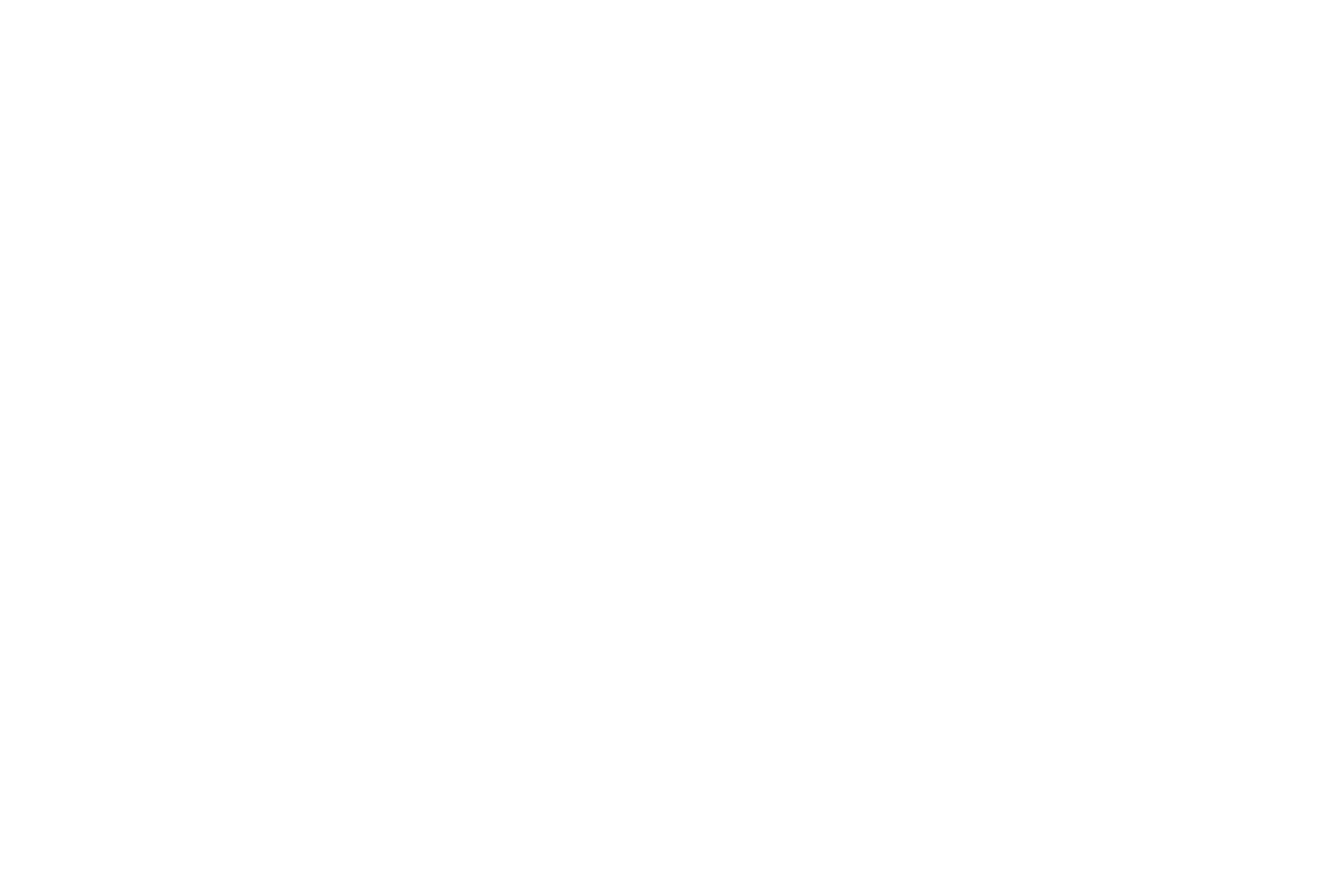
Когда режиссёр Юрий Бутусов привёз из Москвы в Санкт-Петербург одно из своих новых
творений — спектакль «Сын» по пьесе современного французского драматурга Флориана
Зеллера, — было много возгласов о триумфе, не иначе. Как известно, Юрий Николаевич
скандально покинул родной город и дорогой его сердцу Театр им. Ленсовета четыре года
назад, после чего был приглашён Римасом Туминасом в Театр им. Евг. Вахтангова на должность главного режиссёра, где он плодотворно работает и сейчас, параллельно сотрудничая с другими театрами. «Сын» был поставлен в РАМТе в октябре 2020 года, а зрители Северной столицы смогли его увидеть 8 декабря 2021 благодаря фестивалю «Золотая маска»
в Санкт-Петербурге.
«Это пьеса о Гамлете в каждом из нас. В вынужденных компромиссах, в необходимости соглашаться с тем, чем не хочется мириться», — красной строкой идут слова Бутусова к этой
постановке. Каков поворот! Если учесть, что последним спектаклем в Театре им. Ленсовета
был «Гамлет» (премьера состоялась 22 декабря 2017) с Лаурой Пицхелаури в заглавной роли, которая в финале надрывно кидала в зал слова: «Я буду! Буду!» (отвечая на вопрос, будет ли она фехтовать, и на этом спектакль заканчивался). А дальше — тишина длиною в несколько лет, чтобы вернуться на подмостки Александринского театра с новой и, кажется, ещё более личной рефлексией на тему «быть или не быть?»
творений — спектакль «Сын» по пьесе современного французского драматурга Флориана
Зеллера, — было много возгласов о триумфе, не иначе. Как известно, Юрий Николаевич
скандально покинул родной город и дорогой его сердцу Театр им. Ленсовета четыре года
назад, после чего был приглашён Римасом Туминасом в Театр им. Евг. Вахтангова на должность главного режиссёра, где он плодотворно работает и сейчас, параллельно сотрудничая с другими театрами. «Сын» был поставлен в РАМТе в октябре 2020 года, а зрители Северной столицы смогли его увидеть 8 декабря 2021 благодаря фестивалю «Золотая маска»
в Санкт-Петербурге.
«Это пьеса о Гамлете в каждом из нас. В вынужденных компромиссах, в необходимости соглашаться с тем, чем не хочется мириться», — красной строкой идут слова Бутусова к этой
постановке. Каков поворот! Если учесть, что последним спектаклем в Театре им. Ленсовета
был «Гамлет» (премьера состоялась 22 декабря 2017) с Лаурой Пицхелаури в заглавной роли, которая в финале надрывно кидала в зал слова: «Я буду! Буду!» (отвечая на вопрос, будет ли она фехтовать, и на этом спектакль заканчивался). А дальше — тишина длиною в несколько лет, чтобы вернуться на подмостки Александринского театра с новой и, кажется, ещё более личной рефлексией на тему «быть или не быть?»
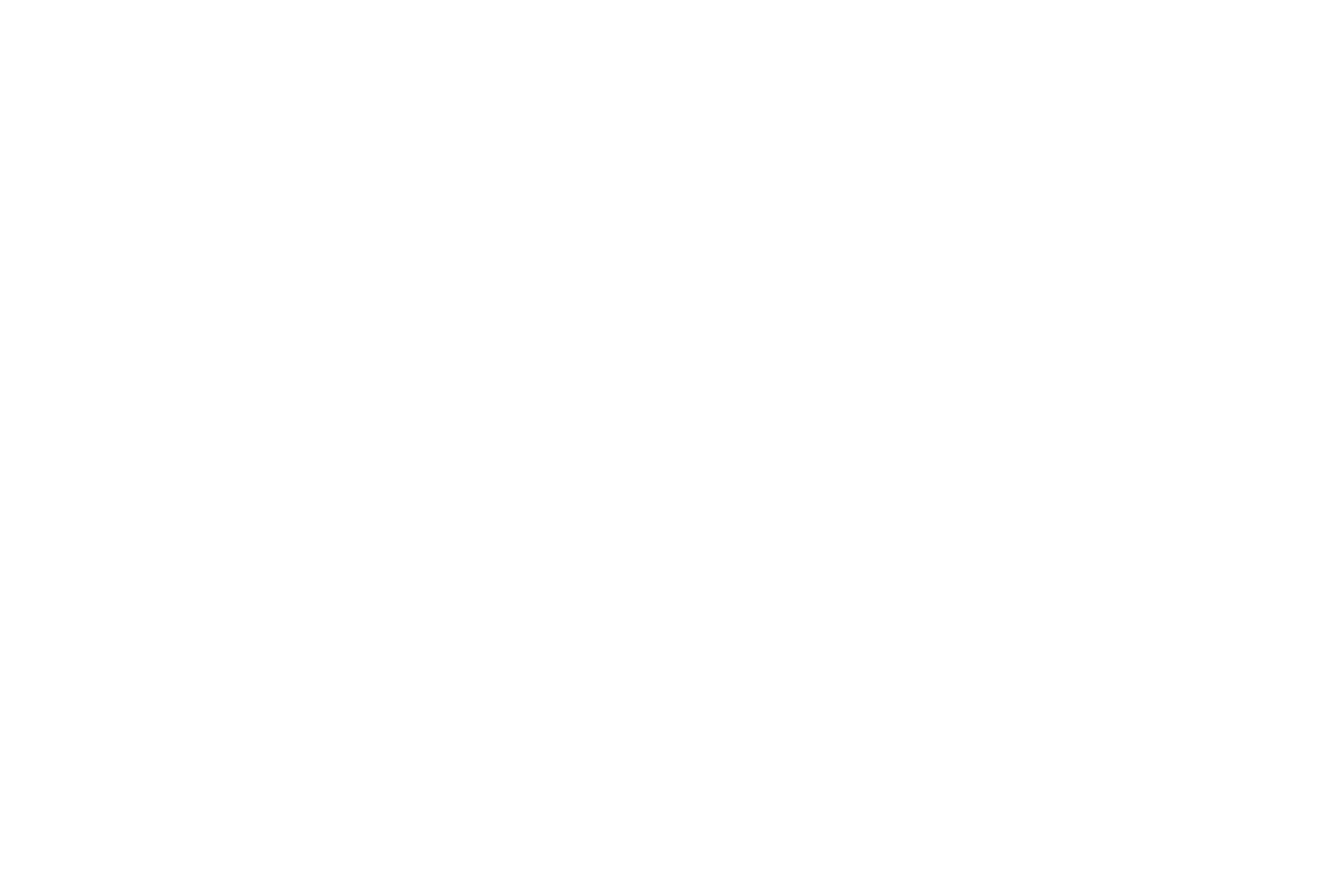
Имея некое представление о творческой судьбе Бутусова, отметим, что «гамлетизм» как состояние сомнения перед решающим выбором проник и в его биографию. Не зря же режиссёр снова и снова обращается к этому великому образу. Бутусов нарёк главного героя «Сына» Гамлетом (нет, по ходу действия его так не называют, но в аннотациях обозначено), потому что увидел в жизненных перипетиях современного подростка, травмированного разводом родителей, такой же глубокий экзистенциальный кризис, порождённый предательством. И дело не в депрессии, душащей мальчика, а в неспособности перенести неидеальность устройства нашего мира, тот самый «вывихнутый век».
Подростка Николя (Сына) исполняет народный артист России Евгений Редько: он в несколько раз старше своего персонажа. А в роли Отца и Матери молодые актёры Александр Девятьяров и Татьяна Матюхова. Возрастные (как и гендерные) пертурбации, раз уж мы направились в гамлетовский дискурс в рамках режиссуры
Бутусова, не то, что не новы, а, скорее, ожидаемы. В первом «Гамлете», поставленном на сцене МХТ им. А.П. Чехова в далёком 2005 году, Клавдий Константина Хабенского физически был ровесником Гамлета Михаила Трухина, с ними соотносился и Полоний Михаила Пореченкова. При этом Гертруда (Марина Голуб), мать Гамлета и жена Клавдия, значительно отделялась по своим годам от этой троицы. Спустя 12 лет в Театре им. Ленсовета появилась другая версия, где Гамлета играла хрустальная, но пластичная, Лаура Пицхелаури, а Офелию — достаточно грузный на её фоне Фёдор Пшеничный. Лаура хоть и старше своего героя, но казалась совершеннейшим подростком. В интервью для журнала «Собака» Бутусов признавался, что уже с первой постановки чувствовал, что вернётся к этому материалу.
Во всех трёх спектаклях, которые мы связываем с личностью Гамлета, способ существования актёров можно свести к трагической клоунаде, самое узнаваемое в почерке Бутусова.
Когда эксцентрика, фарс, кабаре нанизаны на стержень высокого жанра, и перед зрителем
мучительно разматывают весь этот клубок, чтобы в конце, если получится, дойти до священного ужаса. Конечно, в современном театре давно нет места чистым жанрам, но всё же — доминанта в большинстве спектаклей у Бутусова трагическая.
От нарочито фарсовой тональности «Гамлета»-2005 и агрессивно-лирической интонации
постановки 2017 года «Сына» отличает чуть больший психологизм и даже простота. При всём многообразии проверенных временем и переходящих из спектакля в спектакль приёмов: и эффект очуждения, и буфонность, и циркизация действия, и открытая театральная условность, и экстатические состояния, и выбеленные лица, и обилие контрастного музыкального сопровождения. Что интересно, уже во втором «Гамлете» Бутусов использовал современный перевод Андрея Чернова, таким образом речь героев стала приближенной к нашему времени. И в этом тоже можно усмотреть некий переходный момент, попытку переосмыслить Гамлета в новых реалиях.
Подростка Николя (Сына) исполняет народный артист России Евгений Редько: он в несколько раз старше своего персонажа. А в роли Отца и Матери молодые актёры Александр Девятьяров и Татьяна Матюхова. Возрастные (как и гендерные) пертурбации, раз уж мы направились в гамлетовский дискурс в рамках режиссуры
Бутусова, не то, что не новы, а, скорее, ожидаемы. В первом «Гамлете», поставленном на сцене МХТ им. А.П. Чехова в далёком 2005 году, Клавдий Константина Хабенского физически был ровесником Гамлета Михаила Трухина, с ними соотносился и Полоний Михаила Пореченкова. При этом Гертруда (Марина Голуб), мать Гамлета и жена Клавдия, значительно отделялась по своим годам от этой троицы. Спустя 12 лет в Театре им. Ленсовета появилась другая версия, где Гамлета играла хрустальная, но пластичная, Лаура Пицхелаури, а Офелию — достаточно грузный на её фоне Фёдор Пшеничный. Лаура хоть и старше своего героя, но казалась совершеннейшим подростком. В интервью для журнала «Собака» Бутусов признавался, что уже с первой постановки чувствовал, что вернётся к этому материалу.
Во всех трёх спектаклях, которые мы связываем с личностью Гамлета, способ существования актёров можно свести к трагической клоунаде, самое узнаваемое в почерке Бутусова.
Когда эксцентрика, фарс, кабаре нанизаны на стержень высокого жанра, и перед зрителем
мучительно разматывают весь этот клубок, чтобы в конце, если получится, дойти до священного ужаса. Конечно, в современном театре давно нет места чистым жанрам, но всё же — доминанта в большинстве спектаклей у Бутусова трагическая.
От нарочито фарсовой тональности «Гамлета»-2005 и агрессивно-лирической интонации
постановки 2017 года «Сына» отличает чуть больший психологизм и даже простота. При всём многообразии проверенных временем и переходящих из спектакля в спектакль приёмов: и эффект очуждения, и буфонность, и циркизация действия, и открытая театральная условность, и экстатические состояния, и выбеленные лица, и обилие контрастного музыкального сопровождения. Что интересно, уже во втором «Гамлете» Бутусов использовал современный перевод Андрея Чернова, таким образом речь героев стала приближенной к нашему времени. И в этом тоже можно усмотреть некий переходный момент, попытку переосмыслить Гамлета в новых реалиях.
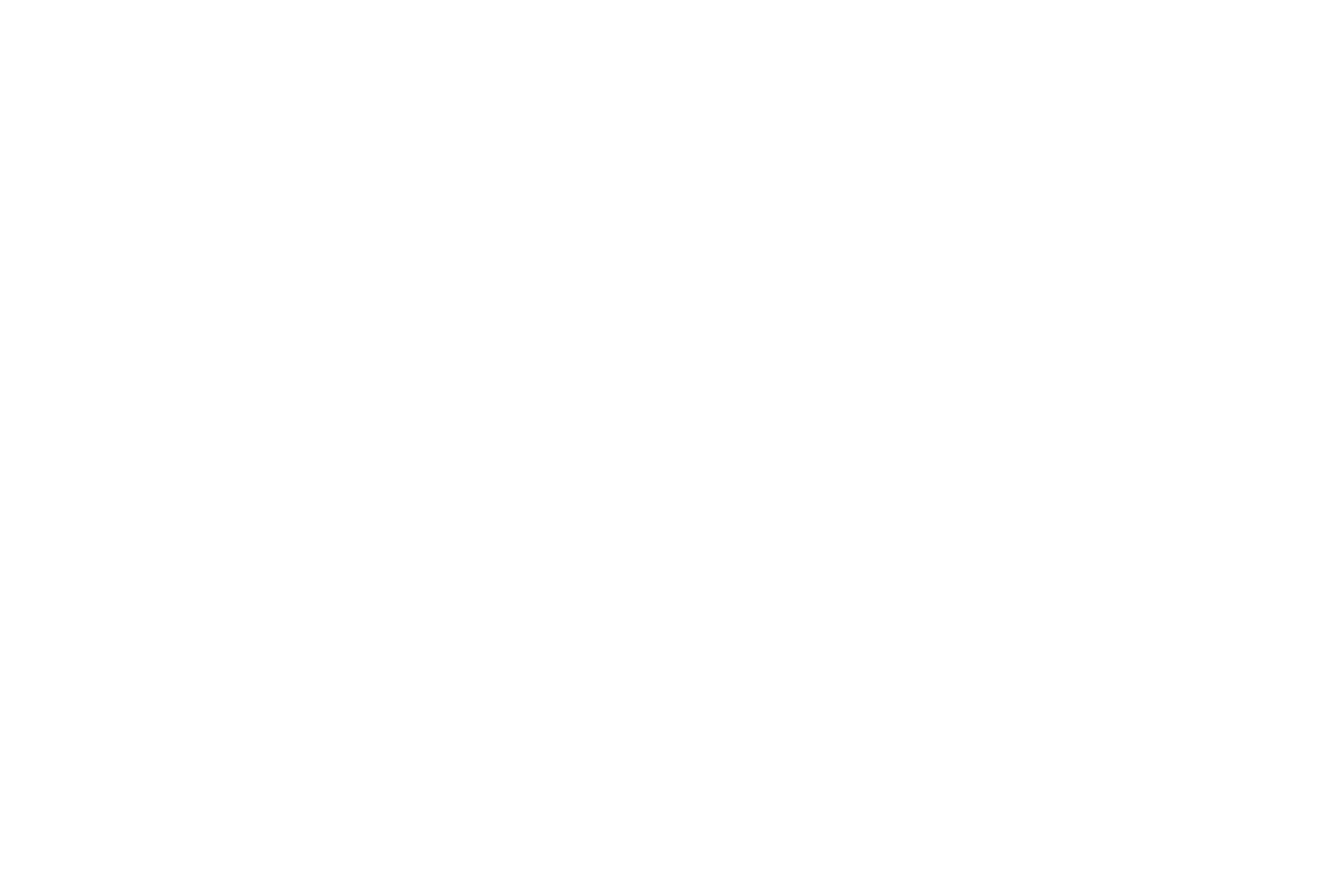
В «Сыне» градус отчаяния и безысходности выше, так как весь сюжет сконцентрирован на одной линии — в сухом остатке: отношения отца и сына (женские роли вторичны). Потеряв отца, Сын (читай Гамлет) утрачивает идентичность и целостность. То есть главное, что объединяет пьесу Зеллера с произведением мирового классика, — трагическое осознание невозврата в статус-кво. Это зерно, из которого режиссёр вырастил смысл спектакля. Мир разбился на кусочки, как тарелки, на обломках которых топчется страдающий Николя в одной из мизансцен. И этот Сын умирает в отличие от сына Датского, которого Бутусов оставил жить.
Если Гамлет версии 2017 был «бестелесным духом», «мифом», как отмечали все критики вслед за самим Бутусовым, то в «Сыне» он материализуется и находит своё физическое воплощение в XXI веке. Зрители практически становятся свидетелями реинкарнации театрального персонажа. Но он обрастает некими дополнительными характеристиками, самая очевидная из которых — в финале он стреляется как Костя Треплев в «Чайке». Шекспир, Чехов, Ибсен и абсурдисты — всё, что когда-либо имело место быть в режиссуре Бутусова — в «Сыне» находят своё «применение».
Обратится ли когда-нибудь Юрий Бутусов к образу Гамлета ещё раз, хотя бы опосредованно, не через пьесу Шекспира? Исчерпана ли эта тема для него? Точка и «дальше — тишина», или всё-таки нет? Посмотрим.
Если Гамлет версии 2017 был «бестелесным духом», «мифом», как отмечали все критики вслед за самим Бутусовым, то в «Сыне» он материализуется и находит своё физическое воплощение в XXI веке. Зрители практически становятся свидетелями реинкарнации театрального персонажа. Но он обрастает некими дополнительными характеристиками, самая очевидная из которых — в финале он стреляется как Костя Треплев в «Чайке». Шекспир, Чехов, Ибсен и абсурдисты — всё, что когда-либо имело место быть в режиссуре Бутусова — в «Сыне» находят своё «применение».
Обратится ли когда-нибудь Юрий Бутусов к образу Гамлета ещё раз, хотя бы опосредованно, не через пьесу Шекспира? Исчерпана ли эта тема для него? Точка и «дальше — тишина», или всё-таки нет? Посмотрим.